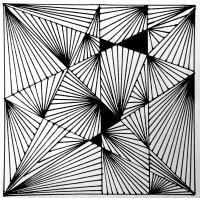| РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Литературные проекты | |
| Т.О. «LYRA» (ШТУТГАРТ) | |
 |
|
Литературные анонсы
Опросы
| 0% | нет не работает |
| 100% | работает, но плохо |
| 0% | хорошо работает |
| 0% | затрудняюсь ответит, не голосовал |
|
Спонсором литературных проектов является Алмазная биржа Израиля. Поиск цветных бриллиантов по базе биржи. |
ХАВА
С первого взгляда Еву Гольдвассер не отличишь от деревенских женщин российской глубинки: так же повязан под подбородком платок, тот же незамысловатый подол ситцевой юбки, и на ногах у нее, несмотря на иерусалимскую жару, толстые, деревенской вязки, шерстяные носки. В израильской квартире Евы пахнет русской избой – то ли это запах кислых щей, то ли заквашенного теста. Вот только речь выдает: поляк услышит в ней польский говор, житель еврейского местечка – интонации идиша. Помнит новая репатриантка и иврит, на котором молился отец, и отрывистый, перемежающийся лаем собак, немецкий. Когда Еву спрашивали в селе Караяшник Ольховатского района Воронежской области, кем считает себя: русской, полькой, еврейкой, она не знала, что ответить: за пятьдесят пять лет, что прожила в селе, не встретила ни одного еврея. Правда, слышала, что с противоположного конца Воронежа, тоже примерно за двести километров от города, в деревне Ильинка все жители приняли веру Моисееву.
Случилось это давно, может, двести, а может, триста лет назад. Говорят, помещик той деревни стал иудеем и растолковал своим мужикам, что к чему. С тех пор почитают ильинские не крест, а звезду Давида, детей называют библейскими именами – Сара, Авраам, Соломон. Работящие, непьющие, они женятся и выходят замуж только за своих. Разумные, добропорядочные люди, живут так, словно Машиах уже пришел. В сорок первом году, когда немцы шли вглубь России, все затаили дыхание – ждали – что сделают ненавистники иудеев с жидовствующими? Наверное, особенно лютовать будут. Случилось чудо – немцев остановили как раз перед деревней Ильинка.
В селе, где появилась Ева, никто евреев не видел; бабы бегали смотреть на нее. «Это ж надо, – удивлялись местные, – говорить по нашему не умеет, зовут чудно и фамилии такой, «Гольдвассер», не выговоришь без поллитры». Потом привыкли, и всем без разницы стало: ну живет и живет, такая же, как все вокруг после войны, безмужняя женщина. Хорошо, хоть с дитем, другие так вековухами остались. Перестали занимать и вытатуированные на Евиной руке цифры – порядковый номер заключенного в немецком концлагере. Ничем не выделялась пришлая молодуха среди зачумленных послевоенным голодом и тяжелой деревенской работой людей, разве что кончик носа был загнут не вверх, а вниз. И глаза… казалось, они продолжают видеть то, что не по силам вынести человеку.
Два раза в жизни Еве довелось писать свою биографию: первый раз – когда устраивалась санитаркой в участковую больницу, второй – когда подавала документы на выезд в Израиль. В биографии значилось: «Я, Гольдвассер Ева Исаковна, 1923 года рождения, уроженка Польши, национальность – еврейка. Не судима. Отец – Гольдвассер Исак – 1892 г.р.; мать – Зисля, 1890 г.р.; сестра – Ревека, 1918 г.р.; брат – Иосиф, 1920 г.р.; сестра – Эстер–Хайгель, 1925 г.р.; брат – Мойше, 1927 г.р.; брат – Авраам, 1929 г.р.; брат – Биньямин, 1930 г.р.; сестра – Сара, 1932 г.р.»
Не осталось в живых ни братьев, ни сестер, ни родителей, но в биографии их указать нужно, потому как не бывает человека ниоткуда, без родных и места рождения.
Сколько лет минуло с тех пор, как увидела Ева в конце длинной проселочной колеи бедные домики под соломенными крышами, а кажется – только вчера ступала она в брезентовых туфлях по комьям засохшей грязи. Рядом был он, Николай, статный, сильный, в туго затянутой ремнем гимнастерке. Он вез беременную жену к своей матери. С тех пор так и жила Ева в том селе. А куда ехать? Зачем? В Польше никого из близких не осталось – постарались и немцы, и поляки. Родной городок Жарки, хоть и стоит на том же месте, только для Евы он превратился в могильную плиту с любимыми именами. Здесь же, в селе Караяшник, есть крыша над головой, и есть хоть какая родня, пусть не ей – сыну. Только крыша сначала была дырявая, сквозь прорехи в соломе залетал снег. Потом ничего, обустроились. Пол в избе был земляной, Ева обмазала его глиной. Нехитрая работа – замесить глину с соломой. Потом, когда пол высохнет, нужно отдраить его песком, загладить разведенным водой навозом, и по сухому, чтобы хорошо пахло, посыпать полынью.
А уж лет через десять, когда зажили своим домом и скотину завели, пол из новых досок сделали, долго держался запах свежего дерева.
В Израиле полы каменные, тарелка упадет – брызнет мелкими осколками, сколько их потом подбирать нужно. Зато мыть легко – гони воду шваброй как на палубе корабля.
Надувается парусом привезенная из деревни белая тюлевая занавеска. Вот и стол накрыт давнишней, зеленой коричневыми разводами скатертью. Скатерть эту Еве подарили в больнице в честь пятидесятилетия советской власти за хорошую работу. Тогда же от администрации и благодарность вынесли. У Евы за долгие годы работы этих благодарностей столько, что все стены обклеить можно. Провожали на пенсию – вазу чехословацкую преподнесли.
Только не ушла Ева на заслуженный отдых, так и осталась работать санитаркой, пока не уехала в Израиль.
Стоят сейчас в той вазе из сиреневого стекла привезенные из дому бумажные цветы, и телевизор тот же, и фотографии в рамках на стенах. Все как было. Вот только за окном непривычно–яркое небо, и покачивается ветка пальмы.
«Стоило ли менять жизнь в восемьдесят с лишним лет?» – в который раз спрашивает себя Ева, и сама отвечает:
«Внуков сюда привезла, одной бы мне их там не поднять. Родителей у них нет, вот и решила за мать и за отца». Ева смотрит на портрет младшего сына Михаила – лицо нежное, девичье: «Был бы жив, горя б не знала». Рядом портрет его жены: «Не одолела сноха жизни без мужа, померла от тоски. Хорошо жили, любовь промеж них была, никогда не ссорились. А мне нельзя умирать, нужно внуков на ноги поставить».
Ева оперлась руками о край дивана, тяжело поднялась и зашаркала на кухню к кипящей на плите кастрюле. Подняла крышку – натруженные долгой тяжелой работой пальцы привычно терпели горячее железо. Стояла и раздумывала:
«Подсолить щи или так оставить?» «Ладно, пусть как есть», – решила она и погасила конфорку. Накрыла полотенцем только что испеченные плюшки, проверила, не забродил ли в кувшине вчера поставленный квас, и вернулась на свой диван. Оправляя подол давно выношенной юбки, подумала: «Пора ее разорвать на тряпки, уж больно старая», но тут же отменила свое решение: «Зачем мне новая, сносить не успею – выбросят. Так уж лучше ненадеванную отдать кому-нибудь, а эту еще залатать можно. Здесь, в Израиле, хорошие вещи на помойку бросают, их бы носить и носить. Вот и хлеб тоже целыми пакетами выбрасывают – сколько людей накормить можно… Сосну часок, внуки только к вечеру явятся: Иван часов в шесть придет, а Светка со своим ухажером, хорошо, если к десяти поспеют. Почему–то в деревне женщин кличут – Танька,
Фенька, а мужчин величают – Николай, Прохор. Вот и внук – не Ванька, а Иван… Голова кружится, совсем плоха стала, ко сну клонит. Раньше, когда одна жила, боялась помереть во сне, а сейчас не страшно – сразу найдут. В деревне с почетом хоронят: оркестр, венки, поминки справляют, а здесь в яму опустят, землей засыплют, и все разойдутся. Так же и в Польше хоронили евреев. Зато поминальную молитву прочтут, кто знает, может, и вправду на том свете не будешь маяться. Интересно, забудет ли душа у престола Всевышнего, что с ней было прежде? У русских человек попадает в рай или в ад, а у евреев, отец говорил, если праведник, по совести жил, предстанет он перед Создателем, и спросит… Я спрошу, почему столько несчастья в жизни, почему так рано умерли мои сыновья. Сначала поблагодарю за то, что у меня четверо внуков, и правнуки есть. Попрошу Всесильного, чтобы не посылал людям тех страданий, которые претерпела я, чтобы радости было больше чем горя».
Сквозь дрему Еве привиделась мать, она что-то помешивает в кастрюле на плите. Тут же – только что принесенные с мороза, припорошенные снегом поленья. На стене блики – то ли от солнца, то ли от огня в печи. Вся семья за столом. Отец очищает дольку чеснока; чешуйки, как заусенцы, торчат во все стороны, он собирает их в щепотку, обмакивает дольку в соль, и жует без хлеба. Дети смотрят с восхищением, пытаются сделать то же самое, но у них не получается – морщатся, машут руками и спешат заесть чеснок борщом. Все вокруг казалось тогда
незыблемым. От сотворения мира стояли в гостиной шкафы с тяжелыми в кожаных переплетах книгами. Отец говорил, что над их истончившимися ломкими страницами сидел еще дедушка его дедушки. В книгах написано о Божественном промысле и обязанностях человека. Когда сестры выйдут замуж и братья женятся, в доме останутся родители с Биньямином; он – самый маленький,
и женится после всех. Никого из детей мама не брала к себе в постель, а этот, любимчик, то и дело скрипит дверями родительской спальни. Ева вспомнила семейную фотографию, где Биньямину три года, он сидит у мамы на коленях. А сама она выглядывает из–за спины старшей сестры Ревекки, только и видна одна мордашка: высокий лоб и внимательные глаза под густыми разлетными бровями…
Представилось, что все дома, сегодня шаббат, на столах горят свечи.
«Мы с Иосифом, старшим братом, хотим пойти на сионистский кружок, там собирается еврейская молодежь, веселятся, поют песни. Мы все – «халуцим», принимаем присягу бескорыстного служения своему народу, и готовы уехать в Палестину. Но родители не разрешают дружить с «халуцим», боятся, что станем недостаточно религиозными; ведь сионисты, как коммунисты, не очень верят в Бога. А в Палестине мы все будем жить, только не сейчас – потом.
Мама купила мне на день рождения высокие, как у пани Виолетты, ботинки на шнурках, и коричневую, с полями, шляпу. Я стою в обновках на улице – жду, чтобы мной восхищались. Засунула руки в карманы пальто и высматриваю – кто пойдет мимо. Как нарочно, улица пуста. Вот вышел из своего дома и заковылял к бакалейной лавке хромой печник Арон, но он уже старый, ему нет дела до моей новой шляпы. Проехал на велосипеде толстый Шмулик, оглянулся – помахал рукой. Сейчас развернется за углом и снова помчится мимо. Отпустит руль, разведет руки в стороны – на, смотри, какой я лихой. А мне все равно, пусть хоть ноги на руль кладет. Я жду Иоханана, он в это время должен возвращаться из мастерской, где шьет голенища для сапог. Иоханан – самый красивый из всех кого я знаю: высокий, голубоглазый, и волосы светлые,
волнистые; похож на польского короля Станислава, портрет которого висит у нас в школе. Когда мой красавчик станет мастером и сам будет кроить кожу, сошьет мне сумку из обрезков – большую, чтобы в нее много всего помещалось.
Нет, лучше маленькую на длинном ремешке: хожу и помахиваю – все оглядываются. Но почему его так долго нет? Кажется, что за мной подглядывают изо всех окон – знают: я жду Иоханана. Нужно уйти, но не могу, стою, как приклеенная.
Наконец, появляется. Не один… За ним, как колобок, катится конопатая Фанька. Она берет его за руку, останавливаются, смеются. О чем они говорят? Поднимаю голову и, гордая, неприступная, прохожу мимо. Заметил меня, смотрит. Фанька хохочет, а мне плакать хочется. Почему? Почему так? Уже два года я высматриваю, когда Иоханан появится на нашей улице со своей всегдашней черной клеенчатой сумкой через плечо. А Фанька не ждала, просто стала встречать его у мастерской. И вот он с ней. Мне казалось, он радовался нашим встречам. Это неправда, иначе не был бы сейчас с ней. Даже не оглянулся. Пусть. Может, не нужно было ждать пока подойдет, а самой, как Фанька… Я завидую ей? Да! Завидую! Но теперь уже ничего не изменишь. Я хочу, чтобы ее не стало. Ветром сдуло. Чтобы она умерла? Боже сохрани! Ладно, пусть остается все как есть. У меня тоже есть жених – Хаим–Эммануил,
это мой двоюродный брат. Правда, я его ни разу не видела. Мама говорит – умный. Только худой, потому что подолгу сидит над книгами. Не все, кто ходит в ешиву, станут учеными, а он станет. Живет Хаим в другом городе, он тоже знает, что я его невеста».
…Был жених, – вернула Еву из беспамятства просигналившая под окном машина. Машина уехала, всплыли прерванные сновидения. Вот она, четырнадцатилетняя девочка, вошла в свою комнату, сняла шляпу, в которой смотрелась почти красавицей, задвинула под кровать высокие ботинки на шнурках – в них еще только предстояло научиться щеголять, как пани Виолетта. Сейчас же ничего не оставалось, как надеть старое платье, и отправиться на кухню, помогать маме скубать перья. Не поднимая головы, чтобы мама не увидела в глазах плач, Ева присела на низкую табуретку, и стала так старательно обрывать пух с жесткого остова пера, будто от ее стараний голубоглазый Иоханан появится сейчас на пороге.
«Перья мама приносит из ресторана, где ощипывает гусей. Иногда с ней расплачиваются деньгами – за одного гуся дают двадцать пять грошей, лапки, горло и жир. Когда брезентовая торба, что стоит в чулане за дверью, набухает перьями до самого верха, мы усаживаемся обрывать пух. Сначала работа идет быстро, но пальцы устают, теряют цепкость, пушинки скользят, не обрываются. Пух, что набирается на полу воздушной горкой, мама заталкивает в наперники – получается подушка. Иногда у нас скапливается десять, а то и двадцать подушек; их покупают женщины в приданое своим дочерям. Обрывать перья скучно, лучше топить жир: стоять у жаровни и ждать, когда на дне осядут шкварки. Мама кладет их в борщ, вареную картошку, а жир сливает в поллитровые банки и продает. Все, кто не евреи, заливают им приготовленные на зиму бутылки с томатом. А мы не едим томат, и помидоры тоже не едим: они не кошерные. «Трефными яблоками» называют у нас помидоры. Мы и без них не голодаем, еще и угощаем соседских детей самым вкусным лакомством – посыпанным солью ломтем хлеба со шкварками».
Ева почему–то всегда просыпается раньше всех. В доме еще холодно и темно. Пока мама не встанет и не затопит печку, вылезать из постели не хочется. В предрассветных сумерках девочка всматривается в переплетения цветных ниток шерстяного ковра, что висит над кроватью. Пытается проследить, где начинается и обрывается желтая нитка, которая вроде чьей–то жизни – где–то появляется, длится, и кончается. Вовсе нитка и не обрывается, она переходит на другое место орнамента, и душа человека
не умирает – переходит в другое тело. Внизу ковер обтрепался, нитки спутались и свисают пестрой бородой. Если не надо спешить в школу, можно еще и еще раз вглядываться в цветные переплетения. Но занятие это быстро утомляет. Тут же хочется вскочить и бежать куда-нибудь далеко–далеко, на край света, которого нет; ведь земля круглая. Пустишься бежать, а потом окажешься на
187
том же месте. И все равно хочется везде побывать. «Я еще успею, – предвкушает Ева радостные перемены. Мир огромный, кончится Польша, начнется другая страна, потом следующая. И везде живут люди. А в других странах
евреи живут так же обособленно как в Польше?.. На земле есть место, где души поднимаются на небо, рядом лестница, по которой души спускаются на землю. Человек умирает, и человек рождается. Поднимающиеся и спускающиеся
души видят друг друга, интересно, о чем они говорят.
Может быть, о том же, о чем толкуют приезжающие к отцу из села в картузах и тяжелых сапогах перекупщики муки. Когда они появляются, то долго за полночь сидят в гостиной с отцом, подсчитывают расходы–доходы, сокрушаются,
смеются».
Ева тихонько приоткрывает двери спальни и прислушивается
к их голосам. Покончив с расчетами, гости рассуждают о том, что Закон, по которому мы живем, записан
на небе. И получается все едино – небо и земля. Душа на земле – в преддверии вечности. Ни вечности, ни бесконечности Ева не представляет, и потому теряет ход рассуждений, перестает вслушиваться, и постепенно засыпает.
Утром гостиная пуста, если бы не прислоненные к стене мешки с мукой, запах дегтя и мокрой овчины, можно было бы думать, что никого и не было.
Отец продавал муку, торговал неумело, прибыли оказывались
копеечными, а иногда и убытки терпел. Мама от продажи подушек и гусиного жира зарабатывала больше. «Мама накопит денег и купит Ривке швейную машинку, Ривка старше меня, она первая выйдет замуж. Я тоже буду учиться шить, и тоже заработаю денег на приданое. Выйду
замуж, и у меня будет маленький, совсем маленький ребеночек. Он будет любить меня, а когда подрастет – полюбит
еще кого-нибудь. К тому времени у меня появится еще один маленький, которому я буду нужна больше всех. Ночью заплачет, возьму его на руки, прижму к себе, и он затихнет, успокоится. Ночью в темноте страшно одному,
188 мир огромный, а он маленький. А пока нужно работать, все получается из стараний каждодневного труда, дом складывается по кирпичику. Мама говорит: «Евреи должны
много работать, только так мы можем выжить среди гоев. Мы должны быть нужными им. Земля, на которой мы живем – их земля, и законы их – не наши законы».
Случается мама забывает обо всем, остановится и стоит посреди комнаты; думает о чем–то. Вот и Иосиф – брат тоже замирает. «Ау! – окликаю его – ты где?» «А! – спохватывается он. – Ты что-то сказала?» Так же смотрит
поверх голов и дядя Яша, который ходит по домам, собирает милостыню. У дяди Яши нет работы, он потому что старый и больной. Его не унижает подаяние, наоборот,
люди радуются случаю сделать доброе дело. Один старый цадик сказал: «Еврею заповедано заботиться о своей душе и о теле ближнего». Я стараюсь дать большую денежку и заглянуть дяде Яше в лицо – узнать, рад ли. Но он остается равнодушным – много ли дашь, мало. Этот одинокий гордый человек ничего не боится, и умереть ему не страшно. Каждый нищий может оказаться принимающим
разные обличья пророком Элияу. Дядя Яша привлекает тайной своей независимости и пугает тем, что и ты можешь оказаться на его месте. Вот и мой жених Хаим–Эммануил ничего не боится. В следующем письме спрошу у него, почему змей соблазнил женщину, а не мужчину.
Если бы я была мужчиной, я бы тоже учила Талмуд и знала бы обо всем».
Окончила Ева всего лишь начальную школу – шесть классов; дальше не стала учиться, нужно было присматривать
за маленькими детьми и помогать маме по хозяйству. Да и какой смысл идти в седьмой класс, если гимназия все равно не для нее: там ведь и в субботу нужно
посещать занятия. Поехала к бабушке, маминой маме, в большой город Сосновец – учиться шить. У бабушки к тому времени уже жила Ривка – старшая сестра, она тоже хотела стать портнихой.
189
– Не подходи! Отойди от окна! – кричит бабушка.
В подсознании дремлющей Евы начавшийся треск отбойного молотка за окном, – на проезжей части дороги
поднимали асфальт, – стал пулеметной очередью из низко пролетающего над городом немецкого самолета. Стих жужжащий звук отбойного молотка – улетел самолет.
Осторожно, с опаской, бабушка приоткрывает окно. Невдалеке истошные крики, один женский голос вопит как сирена. Наверное, случилось что-то непоправимое. «Симка
кричит, – шепчет бабушка, – Берелэ убили…» Первой выходит из дома Ева, ей страшно, кругом крики о помощи, дым. Но еще страшней оставаться дома. Она пытается представить себя мертвой, и не может. Ведь тогда все исчезнет
– люди, небо, лошади. А такого не может быть.
Почему–то именно к лошадям Ева испытывает особенную
нежность, она жалеет этих умных, терпеливых, обреченных на тяжелую работу животных. Да и животные ли они? В их добрых глазах – столько понимания и застоявшейся
грусти. Всегда хотелось подойти к коняге, распластать
ладони на ее шее, и поделится она с тобой тайной
своей терпеливой силы. Люди, если загорится дом, выскочат, а что делать запертой в сарае лошади?
Все реже появлялись на улицах люди: выйдешь из дому купить хлеб, молоко, и оказываешься перед сгоревшими,
разграбленными лавками, магазинами. На ночь Ева с бабушкой и сестрой устраивались поближе к двери. Спали одетыми, на случай, чтобы успеть выскочить из горящего дома, пока не завалится крыша. После налетов все больше оставалось разрушенных домов, все тише разговаривали соседи, примолкли дети, поджали хвосты собаки – они не знали на кого лаять, кто виноват в этом неустройстве. Особенно зловещей тишина становилась ночью, по звуку шагов затаившиеся люди определяли, к кому на этот раз полицай ведет немцев. И если хозяева не открывали, стреляли в окна, выбивали двери.
190 – Не открывай, – прошептала Ева, когда приклады застучали в их дверь. – Не открывай!
Дверь затрещала, и тут уж ничего не оставалось, как отодвинуть засов. То были полицаи, говорили по-польски, на рукаве – широкая белая повязка со свастикой.
– Жидовски пани крепко спят, – процедил сквозь зубы один из них.
Все трое высились над несчастными женщинами, как судьба, неотвратимый рок.
– Добри панове! – взмолилась бабушка, – Пожалейте дивчинок! Я ж вам ничего худого не сделала. Они не здешние,
з мяста Жарки. В гостях у меня…
– Отойди, старая! Тебе говорят, отойди! Да и панночки уже готовы, принаряженные стоят.
– Возьми меня! – кричит бабушка. – Меня возьми! Скажи, куда – я пойду. Что нужно сделать – сделаю. Скажи!
Вам же все равно, кого убивать. Убейте меня! Отпустите
дивчинок, они уйдут к батьке с мамкой в Жарки.
– Мышляй, бабка, – отстраняется от старой женщины полицай. – Там уже ни одного из вашего племени не осталось,
всех вместе, сразу – и в одну яму. Очистили город от жидов – юденрайт.
Бабушка оседает на пол, девочек полицаи выталкивают
за дверь.
23 июня 1940 года в польском городе Сосновец погасло
солнце. Серое небо, безгласная серая толпа на сером асфальте, и три стола на городской площади. Еве с сестрой велели подойти к первому столу, на котором была табличка со словом «арбайт», «рабочие». Туда подводили молодых, которые могли работать. Ко второму столу – детей,
к третьему – стариков. Маленькие дети не понимали приказов и бросались к отделенным от них матерям. Немцы
хватали их за ноги и разбивали об асфальт. В тот день у Евы окаменела душа, все вокруг стало серым пеплом, которым евреи посыпают голову в несчастье. Не осталось сил даже на безмолвный крик отчаянья. Звериный оскал
191
немцев, убивающих детей на глазах матерей, заставил, наконец, осознать – нет больше отца, матери, сестер, братьев.
Отец, накрывшись талесом, молился за всю семью, за всех рассеянных по миру евреев. Куда девались его молитвы? Как могло такое случится?! Мозги на асфальте…
Пустое небо…
Всех отмеченных в списках «арбайт» загоняли в открытые
грузовики. Тогда же Ева потеряла сестру. Оказавшись
в разных машинах, они больше не виделись. Прижатые
друг к другу люди молчали: о чем говорить, кому жаловаться и кричать о помощи, если Всесильный мог допустить
такое. «Чтобы не сойти с ума, нужно убить в себе память, обо всем забыть. Все в общей яме. Что мама сказала
детям, чем утешила в последнюю минуту? Долго ли они мучились? Ничего больше нет. А Ты где, Господи?»
Дома вдоль дороги, деревья видятся плоскими фанерными
декорациями… накренились, сейчас упадут. Все пусто, мертво, ветер гонит серый пепел. Мучает боль в затекших
ногах: некуда вытянуть ноги, расправиться. Люди сидят чуть не друг на друге. Появляется злость, раздражение
на того, кто придавил тебя, хочется его оттолкнуть, ударить. Все молчат. «Открыть бы широко рот и кричать, с криком уйдет боль, ужас, а может, и душа оставит несчастное
тело. Хочется пить, нестерпима жажда – все высохло внутри, завязалось узлом. Это не я, тело просит воды, оно болит».
На развилке железнодорожных линий грузовик наконец
остановился. Людей, утративших имена, и все чем они жили, выстраивают в колонну и ведут к товарному составу. Ева видит под вагоном между рельсами лужу, почти сплошь покрытую радужным пятном мазута. Стоит
нагнуться, отодвинуть цветную пленку, и тогда можно втянуть в себя воду. Если закружится голова и потеряешь сознание, тебя пристрелит охранник, так даже лучше. Ева встает на колени, отгоняет рукой нефтяное пятно, зачер192
пывает пригоршню воды и пьет. Тут же тянутся к луже руки обезумевших от жажды женщин.
Ева проснулась, хотелось пить. Пока поднималась со своего дивана и шла на кухню, жажда прошла. И все–таки выпила стакан воды – впрок. Сколько лет прошло, а ужас пережитого возвращается в наплывах воспоминаний, снах. Оглянувшись в поисках несделанной работы, Ева увидела и поставила в холодильник банку с засоленными
огурцами, завернула в целлофан остатки пиццы. «И зачем деньги тратит, – с досадой подумала она о внуке. – В доме всего полно, и печеного, и жареного. Что за вкус в этом корже с сыром». Вернувшись в комнату, включила телевизор – русский канал. На экране появилась худая, угловатая девушка, она возмущалась, что милиция ее арестовала: «Да, ходила по центральному универмагу Москвы голая, в чем мать родила. Ну и что?! Кому какое дело! Имею право! Не нравится – не смотрите». Ева не судила эту дурнушку, так бесстыдно заявившую о себе. Понимала, наготой своей та хотела обратить на себя внимание – мол, и она женщина, и ее некрасивое тело просит ласки, любви. Кто знает, может быть, возмущение окружающих лучше, чем ничего. «Эх, не видала она настоящих
бед», – думает Ева. В возрасте этой девицы она числилась в немецком концлагере города Глейвиц под номером «79123». На работу ходили строем, под конвоем держащих наизготовку автоматы немецких охранников. В первые дни появлялся соблазн вглядеться в глаза стерегущему
их немцу, хотелось увидеть сочувствие, жалость: ведь и он человек, а, может, наоборот, озвереет, и поспешит
расстрелять дерзкую.
Поднимались затемно, работали до черноты в глазах, потом – короткий сон под лай сторожевых собак. Засыпали
и просыпались с мучительным ощущением голода, никто ничего не мог изменить – завтра будет то же, что и сегодня. Незачем вспоминать прошлое, и будущего нет;
193
жизнь ничего не стоит. Человек, которого долго мучают, теряет вкус к жизни и представление о Боге, как о справедливом
и милосердном Судие. Возникали сомнения – так ли Он всемогущ. Люди умирали не только от голода и усталости, но и от безнадежности. Трупы сжигали тут же, на территории лагеря; из трубы крематория валил черный, маслянистый дым. Каждый, глядя на этот дым, понимал: сегодня я получил отсрочку.
Ева худела, истончилась до кости, но выжила. И не болела ни разу. Заболеть – это наверняка означало умереть.
На работу не выйдешь – хлеб не получишь. Маршрут
меняли нечасто, все больше водили очищать от гари котлы на заводе, где из смолы и сажи делали порох. Из бумажных мешков в барабан засыпали сажу, туда же тонкой
струйкой лили смолу, и крутили ручку барабана, пока смесь не загустевала. Мысли о том, что ты помогаешь немцам уничтожать людей, убивали остатки душевных сил.
Порох был черным, как сажа, черной была и утоптанная
арестантами земля под ногами. Вокруг – ни кустика, ни травинки, животных тоже не было, и птицы не пролетали
над утратившими надежду женщинами. «Мы одни во всем мире – угнетающее чувство голода, колючая проволока,
и лай собак. Мы потеряли представление о времени, жизнь продолжалась по инерции. В обезличенной толпе каждый замкнулся в своем одиночестве, завис в пустоте. Казалось, прокричи петух, и исчезнет это дьявольское наваждение,
выйдут из горестного оцепенения ставшие бесполыми
люди. Нам не для чего было жить, от нас ничего не зависело. О чем думать, кого вопрошать, если все, что происходит, выше твоего разумения; разве щепка в засасывающей
воронке вольна выбирать, куда ей плыть. Еще один день ты на ногах, а завтра – не превратишься ли, как рыжеволосая Сима, соседка по нарам, в пепел, которым немцы удобрят свои поля». Раньше, на воле, Ева боялась даже смотреть на покойников, теперь же жизнь и смерть
194 стали настолько нераздельны, что она сняла с Симы ее рваную шерстяную кофту и, чтобы никто не опередил, поспешила натянуть на себя. Пожалела, что мало разговаривала
с красавицей Симой, ничего не спросила об ее семье. Впрочем, зачем спрашивать, если конец один… Кто знает, может и свидимся, теперь уже в другом мире. Но ведь справедливость должна быть здесь – на земле. Можно ли притерпеться к смерти? Сегодня сжигают одних,
завтра прибывает транспорт с другими…
Как тонка грань между женщинами на последней стадии
истощения, но еще страдающими от голода, – и теми, кто уже потерял интерес ко всему: им уже не хочется есть. Через сутки–двое их веки прилипнут к глазницам. Какой соблазн – утром не вставать на работу, расслабить, наконец, измученное тело – умереть и освободиться от холода, голода, лязга затворок печей крематория и запаха
паленых костей. Но шестнадцатилетняя Ева не могла преодолеть ужас того, что завтра подцепят ее крючьями и поволокут из барака. Такое видение снова и снова поднимало
с нар.
Часто думала о том, что делается на линии фронта. Воюют ли еще? Или уже вся земля превратилась в огороженные
колючей проволокой участки концлагерей? Приходили на ум мысли о солдатах, попавших в окружение.
На них идет смерть, все ближе, ближе… Хорошо, если пуля убьет наповал, а если только ранит, и потом долго умирать… Старалась уговорить себя, что родители с детьми не мучились. Представление о том, что кто-то из них еще долго лежал живым в общей могиле, было нестерпимым. Ева тут же тушила воображение. «Мама, наверное, сказала детям, что умирать не страшно, смерть – не конец, человек снова вернется в жизнь, и каждому воздастся по делам его». Справедливость – это то, на что уповают люди. А иначе жизнь не имеет смысла. Но ведь немцы тоже люди. Или не люди?
195
Ева цеплялась за воспоминания о письмах своего жениха, в концлагере они были для нее чем-то вроде веревки,
висящей над пропастью небытия. Все зависело от того, сумеет ли она по этой зыбкой опоре переползти в будущее.
В последнем письме Хаим–Эммануил рассуждал о том, что Бог дал человеку свободу выбора: каждый может выбрать добро или зло. Что же касается справедливости, так она не ограничивается этим миром. Ева тогда написала
своему жениху: «Про другой мир ничего не знаю. Хочу видеть тебя здесь и сейчас – у бабушки». Ответа не получила – началась война. Так они и не встретились. Хаима,
наверное, тоже угнали на работу в Германию. «Что я о нем знаю? Высокий, худой, сутулится – так мама говорила.
И теперь я всматриваюсь в каждый высокий силуэт на территории мужского лагеря, что справа от нашего за колючей проволокой. Шатающихся дистрофиков много, как мне узнать моего Хаима? Слева от нас – женский лагерь,
там женщины из Франции, Германии, Чехословакии. А нас – из Венгрии, Югославии, Польши – почему–то поместили
отдельно. Если броситься на колючую проволоку, по которой проходит ток, смерть наступит сразу и в ясном уме – еще успеешь заметить, как отлетает душа. Хаим на такое не мог соблазниться: не по своей воле человек приходит
в этот мир, и не по своей – уходит из жизни. Где же мне искать его – в тех ли доходягах, что так же, как мы, подобно помойным собакам, вынюхивают, где бы подобрать
хоть крошку съестного, или вглядываться в далекую звезду – не там ли душа его?»
С лета сорокового года, когда немцы оккупировали Польшу, до января сорок пятого, когда они поняли: не остановить им русские войска, в немецких концлагерях из каждой тысячи выжили единицы. Но и немногих оставшихся
тоже должны были уничтожить. «А если не успеют, останетесь жить», – сказал часовой по-польски; это вовсе не означало что он поляк, мог быть и немцем из восточной Пруссии.
196 Все меньше становилась ежедневная норма хлеба, все больше умирало людей. Крематорий не справлялся с увеличивающейся день ото дня горой трупов, и тогда немцы решили вывезти тех, кто еще передвигался, туда, где адские печи рассчитаны не на десятки – на тысячи. «Погрузили нас в товарные вагоны и повезли как насыпной
груз. Вагоны без крыши и даже без дырки в полу заменяющей туалет; зачем туалет, если пять суток не давали ни хлеба, ни воды. Железнодорожные пути часто оказывались занятыми, поезд шел медленно, с остановками.
Никто не знал, где мы, куда нас направили, да и не все ли равно – нас везли убивать. Охранник был добрым – предупредил. Да мы и сами знали, что нас ждет. Шесть лет проработали у немцев, понимали, что к чему.
То ли во сне, то ли наяву Ева слышит перестук колес – их, еще живых, везут в газовые камеры. Люди не смотрят
друг на друга – ужас в глазах соседа лишь умножает твой страх; ты никого не спасешь, и тебе не помогут. Вопи, рви на себе волосы, бейся головой об пол – ничего не изменишь. Да и живые ли еще вокруг тебя – всего лишь неподвижная, износившаяся ветошь, на которую оседают
снежинки. За высокими бортами вагона не видно, что вокруг, только по скрипу колес и гудкам паровоза догадаешься,
загнали ли состав в тупик, или поезд снова набирает
ход. Зато можно смотреть в небо, найти высоко над головой снежинку и следить за ней, пока не исчезнет за бортом вагона, а еще лучше, постараться угадать, какая из них летит на тебя. Арестантская роба не защищает от холода. Холод и голод уничтожают тебя. Завыть бы, как воют голодные волки в зимнюю стужу.
…Перестук колес становится реже, еще реже, скрипнув
тормозами, поезд остановился. Посреди вагона дремлет охранник, заслышит шорох – тут же вскидывается
и хватается за ружье. «Четыре раза темнело небо, четыре раза светлело, и опять ночь; скоро приедем, въедем
в смерть». Представив удушье газовой камеры, Ева
197
глубоко вдыхает звездный, морозный воздух. Старается – и не может сообразить, куда же идет поезд, на запад или восток. Туда – в город Гляйвиц, он же Аушвиц, тоже в товарных вагонах ехали, по дороге поезд останавливался – выносили трупы. Сейчас даже не заглядывают к нам, среди неподвижных людей не различишь – кто жив, а кто уже умер».
Еве хотелось умереть на свободе и еще хотелось поесть снега – набрать полную пригоршню и затолкать в рот.
…Лязгнули буфера, поезд дернулся и стал набирать скорость. «Это последняя ночь. Завтра нас не будет. Лучше умереть, глядя в небо, чем задохнуться от газа». Ева ждет, когда большое черное облако наползет на луну и станет совсем темно, она проберется к буферам и прыгнет.
«Подстрелит ли охранник, или попадешь под колеса – все лучше, чем тебя загонят в душегубку». Наконец, поднимается, переступая через лежащих на полу женщин, направляется в конец вагона. «Скорей! Нужно успеть, пока не очнулся охранник. Нужно собраться с силами, и как в воду прыгнуть – вытянуть вперед руки, и лететь ласточкой,
подальше от колес». Ева отталкивается ногами и падает в снег. В нее стреляют, по щеке течет кровь, кровь над локтем, но ранения легкие – кость не задета. Беглянка
лежит лицом в снег, ждет, пока пройдет последний вагон. Наконец, поднимает голову, встает и идет. Вдоль рельсов лежат убитые, стонут раненые – и они сделали единственно возможную попытку умереть на свободе.
Невдалеке от линии железной дороги – лес, где Ева и спряталась. То был даже не лес, а редкие лесопосадки. Там встретила девушку из своего поезда, и пошли они, куда глаза глядят – подальше от рельсов. Всю ночь проплутали
в тех чахлых деревцах, а к утру вышли к шоссе. На одном из поворотов увидели указатель: «До Праги 62 километра». «Значит, нас перегоняли на запад, вглубь Германии», – сообразили недавние арестантки. Ничего им
198 не оставалось, как идти вперед и радоваться непривычному
чувству свободы. По пути, недалеко от дороги увидели деревню – «чистенькую, культурную». Решили зайти, попросить
воды напиться, вдруг и хлеба дадут. Вошли в деревню
и сразу увидели расклеенные всюду объявления о том, что с транспорта сбежали заключенные, кто встретит – сдать в гестапо. Вот девушки и подумали: зачем двоим пропадать – Ева постучится в первый же дом одна, если задержится там, значит, схватили, и тогда спрятавшаяся за сараем попутчица должна незаметно уйти.
В доме были старик со старухой. Девушка обратилась к ним по-польски, и они сразу все поняли. Бабка говорит хозяину: «Дай ей поесть». Беглянка позвала напарницу, и чего только не выставили им на стол: вареную картошку, суп, сахар кусками, целый каравай хлеба нарезали. А по радио в это время объявляют: «С транспорта сбежали заключенные,
нужно докладывать о них в гестапо…» Хозяин спрашивает: «Вы не с того ли транспорта?»
Мы молчим. Какой смысл отрекаться. По нас и так все видно – голодные, холодные, неприбранные, одни под открытым
небом. Только протянули руки к хлебу, пришел хозяйский
сын и говорит старикам то, что они и без него слышали
по радио: «За пособничество беглецам расстреляют всю семью». Дали они нам хлеба на дорогу и два куска сахара.
Сахар был твердый и прозрачный, как стекло. Ушли мы из той деревни в поле, спрятались в скирду соломы, и сразу уснули: устали смертельно. Но на снегу остались наши следы. Нашли нас полицаи с собаками. Кончилась наша свобода и кончилась воля к жизни. Отчаянье сменилось
безразличием. Все зря. Только и ощутила, что усталость
и пустоту, стало без разницы – жить или умереть. Полицаи разговаривали по-польски, то были шлензаки – силезские немцы из Восточной Пруссии. Мы попросили их убить нас поскорей, чтобы больше не мучиться. «Убьем, убьем», – загоготали те. Отвели нас в гестапо, а там уже двадцать три человека на полу сидят, таких же, как мы – с
199
транспорта из Германии. Туда же раненых на носилках принесли и бросили как собак. Потом переместили нас в большую тюрьму-крепость. Помещение не отапливалось, и сидели мы там на холодном цементном полу. Как только не околели. Холод мучительней голода, он парализует. Чтобы остатки тепла не ушли в цементный пол, нужно сжаться, сделать тело непроницаемым, чтобы холод не пробрался в кости. Убивала безнадежность. Знать бы, сколько дней нужно еще продержаться, можно было бы рассчитать силы. Все время мерещилась еда. Вспоминалась
бабушка, главной заботой которой было накормить всякого, кто бы ни пришел к ней в дом. Даже среди ночи – в духовке всегда стояла жаровня с чем-нибудь вкусным. Виделась мама – вот она несет и ставит на стол полную миску горячей картошки. По белым рассыпчатым картофелинам
стекает жир с жареным луком и шкварками…
Пленных той крепости водили на работу, нас же никуда
не выпускали. Кормили насмерть, чтобы подохли. В воскресенье – маленькую кружечку супа из картофельных очисток. В понедельник двери не открывались – ничего не было. Во вторник – сто грамм хлеба. В среду – та же двухсотграммовая
кружечка супа из картофельных очисток. В четверг – двери не открывались. В пятницу – кусочек хлеба. В субботу – ничего. Время от времени тюремщик пинком сапога проверял, есть ли еще жизнь в ставшей неподвижной кучке тряпья, и если человек не шевелился, выволакивал его за дверь. Оглядывая остальных, тюремщик
не то удивлялся, не то спрашивал: «Вы еще живы!?»
Умирало тело – отлетала душа. Оставило измучившее
вконец чувство голода. Из тьмы каземата пробился свет родного дома и ощущение теплой, облицованной голубым кафелем высокой печи, к которой Ева прижалась спиной. «Так бы и стоять – не двигаться, слушать голоса братьев, сестер. Мама зовет… Ева–девочка раскачивается
на качелях, что прибиты в проходе между гостиной и детской – все выше, выше. Смешно и радостно лететь под
200 потолок, все на тебя смотрят, ахают. Опять мама зовет: «Хава, Хавеле…»
В дверь камеры кто-то тихонько стучал. Никто из скрюченных на цементном полу людей не шевельнулся. Стук повторился. «То, наверное, смерть пришла за мной», – выплыла из небытия Ева. Держась за стенку, медленно поднялась и придвинулась к двери. Окликнула и услышала
в ответ шепот: «Когда постучу в следующий раз, зайдите
в туалет и отодвиньте под подоконником кирпич. Чем смогу, буду помогать». Взбодрились еще не отошедшие в лучший мир люди: «Кто-то о нас думает». Мы и в самом деле стали находить за отодвинутым кирпичом в туалете капустные листья, корки хлеба. Приносившая эти дары оказалась венгеркой – работала в крепости поваром. Она же осведомила вошедших в Чехословакию американцев об оставшихся в живых заключенных.
4 мая 1945 года американцы расстреляли охрану и забрали нас. Кто шел, кто полз на четвереньках, кого несли.
Живые трупы с сумасшедшими глазами и обтянутыми кожей черепами шли мимо глубокой ямы, в которой должны
были быть погребены. Оставшихся в живых евреев из Венгрии, Австрии, Польши, Германии, Чехословакии, Франции американцы отмыли, откормили и хотели отправить
на родину, но приехали русские. Пришел майор медицинской
службы и говорит: «Мы вас освободили, теперь поработайте на нас».
Еву определили санитаркой в военный госпиталь. Ухаживать за ранеными – работа нехитрая – подать, убрать, вымыть; радовало, что кто-то нуждается в тебе, просит, благодарит. И она выбирала самых тяжелых: никого не смогла задержать на этом свете в концлагере – старалась в госпитале. Одного солдата чуть не в покойники
уже записали, не раненый он был – больной. Что-то с горлом случилось, то ли простудился, то ли инфекция какая: весь рот в нарывах, глотать не может, задыхается и температура за сорок. Умирал. Врачи не знали, что де201
лать, как лечить, все перепробовали. Ева сидела с этим метавшимся в жару девятнадцатилетним мальчиком, меняла ему спиртовые компрессы, по капельке вливала в рот горячий гоголь–моголь – так делала ее мама. И больной
задышал свободней. Смерть – это обтянутый серой пятнистой кожей скелет, мальчик же, что лежал перед ней – темноволосый, широкоплечий с полным жизни телом – не мог умереть. Рядом с его гладкой, белой кожей Евина рука с ссадинами, въевшейся на пороховом заводе сажей,
будто вытянулась из преисподней. Санитарка была первой, кого увидел солдат, придя в себя, а чуть оправившись,
стал гладить руки своей спасительнице, ласковые слова говорить. Они оживали вместе – он после болезни, она после долгой безнадежности. Ева не могла отличить жалость от нежности и благодарности к выхоженному ею солдату. Это единственный человек кому она нужна, пусть хоть ненадолго, больше никто ведь ее нигде не ждет.
«Хаим–Эммануил, а ты где? Улетел ли дымом из печи крематория или лежишь в общей яме? Появись, и я уйду с тобой – моим женихом. Мне все равно, каким ты стал – сильным или качаешься от истощения, впрочем, от какой
хорошей жизни тебе набраться сил. Если ты согнулся от горя и волосы поседели на твоей голове, я все равно уйду с тобой. Ты умный. Ты будешь продолжать учиться и станешь мудрецом. Ты писал мне: «Цель творения человека
есть мудрость, чтобы познать Творца». Я уже давно не молюсь – не понимаю и не принимаю мучений и гибели безвинных людей. Как могло случиться такое? Может быть, это выше человеческого понимания? Тогда зачем нам дан Божественный разум? Мне страшно…»
Ева и почти выздоровевший Николай смотрели друг на друга. Он не знал польского языка, никогда не слышал об идише, она не говорила по-русски. Каждый чувствовал другого ладонями, глазами. Ева боялась поверить – неужели
она, еще не оправившаяся от дистрофии, могла понравиться
этому улыбающемуся, необстрелянному юнцу.
202 Просто чудо. И веришь, и не веришь. Не верить в чудо – грех, а может, наоборот – грех уповать на чудо.
«Кто этот русский, языка которого не знаю. К тому же, я старше его на три года. Обещает: «Все будет хорошо». Что будет – то будет. Но можно ли так – без хупы, свадьбы. Почему нельзя? Ведь нет родителей, которые рвали бы на себе волосы, что выхожу замуж за гоя».
Николай быстро поправлялся, по вечерам, когда у санитарки
кончался рабочий день, они выходили в парк возле
госпиталя. Ева стыдилась своего желания еще и еще раз дотронуться до окрепшего младого пана. «Было бы пристойней, – рассуждала она, – если бы он долго и настойчиво
ухаживал, а я бы сомневалась, отнекивалась. Конечно, бросилась бы ему в объятья, но не сразу же». Получилось сразу – не хватило терпения ждать. Не могла
она ждать и в лагере – откладывать на завтра кусочек хлеба, который можно съесть сегодня, сейчас. Хлеб могли украсть, и неизвестно было – наступит ли завтра. Так же неизвестно и сейчас – отойдет младый пан на несколько шагов, скроется за толстыми, необхватными дубами парка,
и больше она его не увидит. Каждое прикосновение – нечаянный подарок и может стать последним.
Когда пришло время Николаю выписываться из госпиталя,
Ева оказалась беременной. «Если ты уедешь в Польшу, где я своего ребенка искать буду?» – спросил он через переводчицу–медсестру. Этих слов оказалось достаточно чтобы Ева поверила в любовь русского, и решилась
ехать с ним, куда глаза глядят – в глухую деревню
Воронежской области. Капитан медицинской службы, врач–венеролог Аронин отговаривал: «Попадешь ты, Ева, в яму, вспомнишь меня». Да ведь выбора не было, домой возвращаться не к кому, да и дома, наверное, нет. Поляки, в отличие от французов, немцев, венгров не звали своих выживших в лагерях смерти евреев.
…По обе стороны дороги от станции Россошь до села
203
Караяшник – такой же, как в Польше, красный клевер, так же кустится ромашка, стремительно проносятся над землей
и взмывают вверх ласточки. Бескрайнее поле. Вокруг ни души. Какой простор! Восторга хватило на первые несколько километров. Дальше Ева недоумевает: «Сколько
незасеянной земли!» Если бы она знала побольше русских слов, сказала бы своему другу, что никогда не видела, даже не представляла, что может быть столько пустующих полей. Среди ровной зеленой поверхности иногда вырисовывался холм, деревце, но и они исчезали из виду, сглаживались. «Наверное, таким же безбрежным и тихим бывает море в безветренную погоду», – думала иностранка, впервые оказавшаяся на немереных просторах
России.
Медленно опускается солнце, вот оно уже коснулось горизонта... Наконец, впереди показались маленькие хатки, как грибы из земли вылезли. «Пришли» – сказал Николай, и Ева с тоской поняла: среди этой незаселенной земли – ее дом. По мере того, как подходили ближе, все неприглядней казалась деревня. Крытые соломой осевшие
бревенчатые избы, хлипкие покосившиеся сараи. Молодая женщина представила, как в зимние холода снег заносит эти бедные строения. Среди однообразного белого поля останутся одни печные трубы, потом и трубы скроются под сугробами, только дымок из труб…
Первой выскочила навстречу худющая черно–белая собака со впалыми боками. Не будь она такой тощей, казалась
бы породистой. Собака прыгала на хозяина, лизала
ему лицо, повизгивала.
– Боксер! Не забыл! – обрадовался Николай.
Собака ластилась, прижималась к сапогам хозяина и, словно спохватившись, начинала лаять – звала остальных
домочадцев.
– Ну хватит, хватит, не путайся под ногами, ты же не даешь мне идти. Вот познакомься, это наша гостья, я скоро
уеду, так ты ее люби вместо меня.
У Евы сжалось сердце, показалось, что три года,
204 которые Николаю нужно еще отслужить в армии, никогда не кончатся, и она останется одна с собакой на этой необжитой
земле.
Боксер остановился, будто почувствовал, о чем печалится
незнакомка, долгим взглядом посмотрел ей в глаза, тявкнул, и кинулся к дому, оповещать о прибытии хозяина. Через мгновенье собака вернулась и стала кружить вокруг молодых. От избы, к которой она бегала, к ним спешила худая женщина в низко надвинутом платке и галошах на босу ногу.
– Ненаглядный ты мой! Родненький! Живой! – заголосила
она, обнимая сына.
– А что мне сделается, – смеялся Николай, – война–
то уже кончилась. Как вы тут?
– Все живы, здоровы. Ты о себе сказывай. Счастье–то какое! Нечаянная встреча! Поди, уж год весточки не слал.
– В госпитале я лежал, она вон выходила. Жена моя.
Мать мельком глянула на рядом стоящую молодуху, на ее большой живот и запричитала:
– Птенчик ты мой, кровинушка моя. Не успел перышки
отрастить, жизни не повидал, а уже с бабой на сносях.
– Ладно, хватит, – прервал сын, – мне на три недели
отпуск дали, жену привезти. Неделю были в дороге, столько же – обратно ехать, и несколько дней – дома. Ей спасибо скажи, а ты голосишь. Веди в избу.
– Ну дак, знамо дело, устали поди, а я, старая, совсем умом тронулась.
Мать с сыном направились к дому, за ними поодаль шла Ева.
Пока Николай вытаскивал из вещмешка гостинцы: банки американской тушенки, куски мыла, кой–какие тряпки, Ева оглядывала низкую, с закопченым потолком комнату с большой, обмазанной глиной, печкой. Тут же, покрытая домотканой дорожкой, широкая лежанка, ско205
лоченный из толстых досок стол, по обе стороны которого – длинные скамьи.
Прибежал с улицы светлоголовый, лопоухий мальчик лет пяти.
– Витька, ты! – изумился Николай, подхватив его на руки. – Какой большой за два года вымахал!
Мальчик с засветившимся лицом проговорил:
– Ты мой папка?!
Николай смутился.
– Он тебе крестный, дядей приходится, – пояснила мать.
– Ладно, – согласился Витька, – дядя – это тоже папа. – А ты кто? – развернулся он к Еве.
– Если он папа, я мама, – с трудом выговаривая русские
слова, улыбнулась Ева.
– Не–е–е, мамка у меня есть.
– Тетка она тебе, крестная, – снова уточнила мать.
– Значит, родня. Тогда ладно, живи у нас, – рассудил Витька, и тут же спросил:
– А что ты мне подаришь?
По ожидающим глазам ребенка, Ева поняла о чем речь, достала из чемодана яркий клетчатый шарф, и протянула
мальчику.
– Ух ты! Где взяла? Поди, сколько деньжищ угрохала!
В следующее мгновенье его взгляд замер на выставленной
Николаем большой белой американской коробке с яичным порошком.
– Повремени чуток, все соберутся, дак вечерять сядем,
– одернула его бабушка, убирая со стола подарки.
– Никак, гости у нас? – проговорила, стоя на пороге, высокая, с сумрачным лицом женщина.
– Почему гости? Гости придут и уйдут, а мы навсегда.
Слов этих Ева не могла перевести на свой язык, но по решительному голосу мужа, поняла: он отстаивает для нее место в этой избе, где, кроме комнаты, были только сени.
206 – Добжий вечер, пани Валентина, – поздоровалась Ева. Муж растолковал ей про всю свою семью: она знала, кого как зовут, и угадала в этой, то ли суровой, то ли замороженной
женщине старшую сестру. Ту, которая пятилетней
девочкой нянчила маленьких братьев, сестренку. Мать целый день работала в поле, разве что забегала домой покормить младенца.
– Добжий, – усмехнулась Валентина.
– Она по-нашему не умеет разговаривать, – вступился
за Еву Витька.
Вскоре пришел хромой брат Иван и младшая сестра Таисья – одна из всей семьи коротконогая, пухлая. Только Николай – брюнет, остальные – светловолосые. Теперь, когда все были в сборе, мать засветила и поставила на стол керосиновую лампу, подождала, пока пламя разгорелось
и убавила фитиль.
«Керосин экономят, – поняла Ева. – В Польше нет таких нищих деревень, и не увидишь таких богатых незасеянных
полей».
– Работать некому, – словно угадав мысли снохи, обмолвилась
мать. – Почитай, на себе пашем, лошадей нет, две клячи на весь колхоз. Все война забрала.
– И до войны не больно жировали, так хоть мужики были, а сейчас одни малолетки остались да председатель с пустым рукавом, – бросила Валентина, глядя на непрошенную
гостью недобрым глазом. И тут же одернула себя:
– Чегой-то мы раскудахтались, она ж турка, не понимает
по-нашему.
– Не турка, а полька, – поправил Николай.
– А по мне, один черт, ишь глазами хлопает.
– Мы хоть живы остались, а у нее никого нет, всех разом перестреляли.
– Сирота, значит, – вздохнула мать. Она вытащила из печи и поставила на голые доски стола чугун с вареной картошкой в мундире, бережно развязала узелок с круп207
ной серой солью, и глядя на совсем уж растерявшуюся молодуху, пригласила:
– Ешь на здоровьице.
Та благодарно улыбнулась, дождалась, пока все возьмут из чугуна по картофелине, потом и сама протянула
руку. Когда протянула второй раз, чугун был пуст. Безмолвная
гостья незаметно оглядывала едва освещенные низким пламенем керосиновой лампы лица своей новой родни. Пришлая, она не понимала этих людей, в доме которых даже тарелок нет, и едят они щи из свекольной ботвы деревянными ложками прямо из чугуна. И все равно
хотелось, чтобы родные мужа полюбили ее, признали своей.
«Понятно – не обрадовались моему появлению. Чему радоваться, самим бы разместиться в этой тесной, с земляным полом, избе. Хорошо бы, все обустроилось: Витькина мать выйдет замуж, Валентину тоже кто-нибудь полюбит…»
– Ладно, – первым поднялся из–за стола хромой Иван, – пойду спать в сарай, ты мать, – с Витькой на печи – место ваше законное, Настюха с Валентиной на лавках, а молодым, как положено – лежанка.
Семь дней, что муж был дома, Ева не отходила от него – хотела наглядеться, надышаться впрок, запомнить
голос, запах волос. Так долго голодающий человек норовит запастись корками хлеба, кто знает, что его ждет впереди. Как последние песчинки протекают в песочных часах, так проходили несколько дней отпуска мужа.
И вот Ева с матерью провожает Николая на станцию, держит его за руку, заглядывает в лицо. По дороге она не заметила оседающего росой густого непроглядного тумана,
не услышала нарастающего щебета пробуждающихся птиц, не почувствовала полуденной летней жары. «Скоро вернусь, – успокаивает солдат жену, – три года быстро пройдут, пацан наш к тому времени уже лопотать станет». Ева не понимала слов, но слышала в них то, что хотела:
208 «Я люблю тебя, все будет хорошо, жди меня». Конечно, она будет ждать, только бы вернулся. В последние минуты
на станции, когда Николай, подтянутый, молодцеватый,
стоял уже на подножке вагона, секунды–песчинки в часах остановились. Вот так он и будет стоять, держась за поручень, смотреть ей в глаза – на всю жизнь продлится это мгновение. Как задыхающаяся рыба хватает ртом воздух,
так Ева будет вспоминать не то внимательный, не то рассеянный последний взгляд мужа.
Домой возвращались молча. На последнем месяце беременная женщина вдруг с пронзительной ясностью ощутила пустоту окружающего мира, чуждость идущей рядом матери Николая. Кто она ей? Да никто, и нет у них общего языка. В концлагере с еврейками из Европы разговаривала
на идиш, из Польши – на польском, а здесь – словно немая.
– Что же ты на крыльце села? Людей стыдно, скажут, в дом не пускают, – говорила свекровь, когда они, наконец, одолели обратную дорогу.
– Да–да, – рассеянно отозвалась сноха, она не понимала,
о чем речь, и продолжала сидеть.
– Притомилась, поди, тут и порожняком тяжело версты
мерить, а тебе, с животом, каково?
В родном городе Жарки Ева видела как кричали евреи Богу, когда у них случалась беда – рвали на себе волосы, колотились головой об стенку. А в концлагере страдали и умирали молча – Бог ослеп и оглох тогда. Что сказал ей Николай на прощанье? Может, не поняла, может… Когда он стоял на подножке и поезд тронулся, она едва удержалась чтобы не ухватиться за его сапоги, завыть в голос: «Возьми меня с собой! Не оставляй здесь одну!» …Только сверху под солнцем прогрелась глубокая вода реки – это тонкий слой надежды, а дальше – бездонный черный омут.
Приблудная молодуха посмотрела на мать Николая, та отвела глаза. «Хамоти (свекровь моя), – с нежностью,
209
и почему то на иврите, подумала о ней Ева. – Ты здесь – единственный человек, которому мой ребенок не будет чужим».
…На потемневшем небе все те же гонимые ветром облака над пустыми полями. Не хватает душевных сил представить жизнь на этих безлюдных пространствах. В концлагере душа, наоборот, погибала в замкнутом, густозаселенном
квадрате черной от сажи земли.
Пока Николай был дома, сестры смотрели на Еву с завистью: они одиноки, а эта чужачка – при мужике, их брате. Не осознавая того, ждали, когда он уедет, и кончится
ее счастье. Теперь же золовки словно не замечали навязанную им «сродственницу», да и какой разговор с безъязыкой. Стараясь не быть в тягость семье, Ева искала работу по дому – очищала песком чугуны, мыла, скребла стол, лавки и, присев на корточки, полола грядки с морковью, свеклой. Сшила из куска марли, что привезла с собой, занавеску на окошко.
– Здорово! – любовался Витька ослепительной белизной
марли на фоне черных бревен избы. Он по-детски наивно жалел свою тетку, потихоньку, чтобы никто не видел,
делился с ней молоком, которое его мать украдкой отливала из колхозного подойника. «Пей! – настаивал мальчик. – Это не тебе, маленькому», – и гладил Еву по животу.
– Она что, все время здесь жить собирается!? – разъярился
Иван, углядев в новой занавеске покушение пришлой
на место в избе.
По его возмущенному голосу та поняла, о чем речь. Деверь был к ней добрым, пока не собрался привести жену в дом. А места нет – лежанка занята.
– Куда ж она пойдет такая? Да и что люди скажут. Погоди
чуток, опростается, – просила мать.
Ева хотела выйти из избы, но ноги не шли – стало как-то муторно, нехорошо. Преодолевая слабость, сде210
лала несколько шагов до лежанки, села, но и сидеть не могла – легла.
– Ты что?! – всполошилась мать. – Аль началось?
Ева застонала, тяжелая, тупая боль сковала тело.
– Ну, ну, не плачь. Обойдется, ты не первая рожаешь в этой избе. Кричи, не бойся. А ты за Настюхой сходи, – обернулась она к Ивану, – я одна не управлюсь.
Ева смотрела в потолок, – прямо над ее лицом висел на паутине огромный черный паук. Вдруг упадет! – испугалась
она, но в следующее мгновенье вспомнила: говорят, пауки к счастью. Много в этой избе пауков, а счастья мало. Паук пошевелил лапками и замер, будто раздумывал, что ему делать дальше. В следующее мгновенье боль снова сковала тело. На этот раз она была непереносима, и роженица
закричала, она звала на помощь мужа. И тут же услышала смешок пришедшей Насти:
– Нашла, кому кричать. Они, мужики, все одинаковые, сделают свое дело, и поминай, как звали. А мы, бабы, сами по себе.
– Нет! – мысленно возмутилась Ева. – Так не бывает.
Мой не такой. Он вернется, не бросит же меня здесь одну.
Потом все стало отодвигаться, уплывать, пропали голоса, боль. Ева не помнит, как долго продолжалось забытье,
очнулась она от крика свекрови:
– Тужься! Тебе говорят, тужься! Ребенка погубишь.
– Не могу. Устала. Ничего не хочу. Не хочу больше жить, сил нет. – Закрыла глаза и в беспамятстве стала молиться на иврите: «Не ради меня, Господи, ради сына моего, помилуй и благослови».
Свекровь с золовкой переглянулись, сказывал же Николай, отчего у нее такая чудная фамилия – не нашей она веры, еврейка. Евреев в деревне никто не видел, но знали – ничего хорошего от них не будет. Вдруг накличет беду на их дом.
– Ну же, поднатужься. Еще чуток потерпи. Вот и лад211
но, ноги поширше расставь. Еще маленько, хорошо, так, хорошо, – подбадривала повитуха то ли роженицу, то ли вылезшую на свет с длинными волосиками головку. – Мальчик, – наконец объявила она и перекрестилась на темную икону в углу.
Ребенок не закричал, издал всего лишь похожий на вздох звук, и замолчал.
– Скромный, как мать, лишнего куска не возьмет, – заключила
свекровь и подняла младенца.
На Еву смотрел крохотный, но разумный человечек. «Тиночек шели (деточка моя)», – мысленно проговорила она. Новорожденный, казалось, услышал ласку – глазенки его потеплели.
– Справный какой, – невольно залюбовалась Настя, – сама кожа да кости, а пацанчика принесла гладенького. И без хвоста. Может, еще отрастет хвост-то; не в нашу породу
пошел.
Хромой, слабосильный Иван сам по себе ничего против невестки не имел, да и пацан ее тихонько лежал – никого не беспокоил. Лютовала женщина, которую деверь
хотел привести в дом, учила его уму–разуму. «Ты, – говорила, – слабак, тряпка помойная. Под материну балалайку
пляшешь, место свое отбить не можешь. Сколько нам таскаться по сеновалам!? Через неделю–другую снег пойдет, отморозишь огрызок свой». И написал Иван брату
письмо в военную часть, мол, жениться хочу, а в избе приткнуться негде, забирай свою бабу с дитем. Николай пошел к командиру, и пришло в сельсовет распоряжение от военного начальства: «Обеспечить жену солдата жильем
».
В декабре, когда морозы набрали силу, выделили жене солдата с сыном половину пустующей колхозной избы. В другой половине, за редкой дощатой перегородкой,
лежали на соломе два новорожденных теленка; их принесли из холодного, продуваемого ветром коровника – боялись, померзнут. Всего–то колхозного стада после
212 войны осталось три коровы, бык и несколько овец. Настя,
сестра Николая, числилась в колхозе дояркой, она же и скотница – убирала навоз, задавала корм и головой отвечала за прирост государственного стада. Случись что с молодняком, отдали бы под суд.
Никак не удавалось Еве с ребенком согреться в той ветхой избе; печка коптила, а сквозь прорехи в соломенной
крыше залетал снег. Зато Настя отливала им из рациона
телят немного молока, потом стала отсыпать и горстку отрубей, из тех, что подмешивала в пойло. Главное, они здесь никому не мешали, а если морозы спадали, в избе было даже уютно. В печи светится огонь, за загородкой мекают, такие же, как бык, черно–белые телята, просовывают
между досками свои слюнявые мордочки. Сначала, когда их только принесли, они даже стоять не могли, тонкие ножки разъезжались во все стороны. Теперь уже ходят, стучат копытцами. Стоит Еве зайти в их закуток, убрать мокрую солому и положить свежую, тут же тычутся ей в подол. Откликаются на голос, вытягивают шеи – «на, почеши, погладь нас».
В феврале завьюжило, снег залепил прорехи в соломенной
крыше, занес и без того покрытое снежным узором, похожим на листья папоротника, окошко. Ночью не видно даже контура окна, а днем оно белеет проскользнувшим
над верхним краем сугроба светом. Жизнь замерла. «Так бы и лежать, накрывшись с головой, чтобы не слышать завывания вьюги – спать. Вот и маленький проспал уже два кормления». Ева ощупывает его личико – дышит ли, прижимает к себе: они могут выжить, только будучи одним целым.
В дверь стучат. «Кто это мог прийти к нам ночью в пургу? Все равно, хоть чей бы голос услышать. Может, Николай приехал… но ему не добраться от станции в такую
погоду. На крыльце скрипит снег под ногами – их двое. Сейчас открою. А вдруг воры-разбойники, зарежут телят, и в мешок. Убьют и меня, чтобы свидетелей не было». Ева
213
прислушалась – стук повторился. Не за себя ей боязно, за сына. И все–таки очень хочется открыть, увидеть лицо человека. «Спросить бы, кто там. Нет, пожалуй, лучше не откликаться. И не нужно шевелиться, вставать, а то пропадет
тепло, скопившееся под наваленным на нас тряпьем.
…Все тихо. Ушли. Скоро, наверное, будет светать, печку пора затопить, но нельзя - нужно переждать ветер, а то погонит дым обратно в трубу, тогда и угореть недолго, много ли маленькому надо».
Настя вчера рассказывала: «В такие ночи много умирают
по избам людей, особенно старики. Заснет человек, а утром, глядишь – неживой». И тогда же по-деловому добавила: «Несподручно сейчас могилу рыть, земля промерзла
». Еве показалось – золовка опасается, как бы она не доставила им лишних хлопот. Подумала и о том, что тем старикам, наверное, стало без разницы – жить или умереть. Во сне легче перейти черту, разделяющую жизнь и смерть. Сколько раз в лагерях преодолевала соблазн лежать и не двигаться. От этого искушения уберег ужас – подцепят тебя завтра крюками и поволокут к выходу… «Нет, нет», – гонит Ева от себя картину умирающей под сугробами деревни.
– Может, старики угорели во сне? – спрашивает она у золовки.
– Может, и угорели, – согласилась та.
«Какая разница отчего умирает человек в старости», – размышляла Ева. Вслушиваясь в легкий посвист затихающего
ветра, решила: теперь можно и печь растопить. Тихонько, чтобы не разбудить сына, встала, нашарила в темноте спички, засветила огонек и поднесла его к соломе в выстуженном зеве печи. Огонек побежал по соломинке, прихватил другую, третью и вспыхнул, будто ждал когда же, наконец, можно отодвинуть тьму.
«К приходу Насти в избе станет тепло, воды согрею. Она хлопнет дверью, закричит на телят; они сразу двумя головами полезут в ее еще пустое ведро. …Обойдется.
214 Все обойдется. Живут же здесь люди. Скоро весна, земля прогреется, зазеленеет. Вскопаю огород, картошку посажу.
Свекровь обещала семена дать. Она хотела назвать внука по имени сына – Николаем, дескать, отцу будет приятно.
Но у евреев нельзя чтобы в одной семье было двое с одним именем. Сыночек мой стал Володей, от еврейского имени Вольф, или Велвл, в Польше произносили по-разному.
А если на иврите – Зеев».
Ева затолкала в печь побольше дров и снова прилегла к сыну. …То ли явь, то ли сон: колеса стучат все медленней,
медленней, скрипят тормоза, поезд останавливается.
Лают собаки. Немцы пинают сапогом лежащих на полу людей. Кто не шевелится, выволакивают из вагона. Вот толстый немец ухватил и тащит рядом лежащую Малку, они с ней вместе ехали из Сосновец – бабушкиного города,
сначала в грузовике, потом оказались рядом в одном вагоне. Ева провожает глазами мертвую Малку и вдруг видит – это ее спеленатого сыночка тащат к распахнутым створкам вагона. Она хочет броситься следом, вцепиться, удержать, но не может сдвинуться с места. Поезд снова набирает ход. Проснулась Ева от плача ребенка, дотронулась
до его личика, выпростала грудь: «Маленький мой! Все обойдется. Слава Богу, молоко у меня есть. Знаю, мокрый лежишь, не могу я тебя сейчас перепеленать, еще холодно, пеленка замерзла – колом стоит. Высохнет на горячих кирпичах, только бы тепло не унесло в трубу. Наш папа приедет, полгода уже прошло. Может, его раньше
отпустят, что делать солдату в армии, если нет войны. Мы его встретим по дороге на станцию. Интересно, к кому он бросится первому – меня ли обнимет, или тебя, мое сокровище, прижмет к груди. Пусть тебя больше любит, чем меня. …Скоро тетка твоя придет, расчистит от снега тропинку к нам, даст надеть свою телогрейку – за водой схожу. Нет, до колодца сейчас не добраться – сугробы глубокие.
Снег в чугуне растоплю, много ли нам с телятами воды надо. Не забыла бы Настя, как в прошлый раз, оста215
вить отрубей. А напомнить стыдно, давать легко, трудно брать: даешь свое, берешь чужое. А когда просишь, голос получается сдавленный, заискивающий. То, что даришь – забываешь, а то добро, что сделали тебе – помнишь, и хочется отдать во много раз больше. Угощать лучше, чем угощаться, все боишься, как бы не обездолить того, кому и самому есть нечего. Ужасно унизительно постоянно хотеть есть, зависеть ото всех, заглядывать в чужие руки – кто бы принес чего».
Вспомнился услышанный ночью в родительском доме разговор приехавших из деревни перекупщиков муки. Ева из своей комнаты не видела их, говорил, наверное, самый бедный из сидящих в гостиной: «Приходит нищий человек к раввину и жалуется на свою нужду. У раввина нет денег – и вот, вместо подаяния он утешает пришельца: «Кого Господь любит, того наказывает». А отец раввина, магид, услышал это и сказал сыну: «Воистину это недостойный способ помочь нуждающемуся. Тот, кто любит Бога, должен
спорить с Ним, должен отстаивать свои права, говорить:
«Почему Ты заставляешь человека унижать себя и побираться, когда в Твоей власти, Господи, чтобы он жил достойно и имел все необходимое?»
Наконец, появилась разрумянившаяся на морозе сероглазая, круглолицая Настя. Бросила в угол мешок соломы,
молча, не глядя на Еву, достала банку с молоком, отруби… Чешуйка отрубей упала на пол, за ней другая, третья… Перед глазами бывшей арестантки всплыла картина выброшенных из кухни, где готовили только для немцев, свекольных очисток. Истощенные женщины, отпихивая
друг друга, бросились на эту нечаянную находку. И она тогда озверела, потеряла рассудок – кусала, царапала.
Во что бы то ни стало, нужно было дотянуться, схватить, зажать в кулаке, успеть запихнуть в рот. Откуда взялась эта ярость зверя. Казалось – от того, удастся ли пробиться, прорваться, стать сильнее других – зависит спасение. Потом было пакостно на душе, стыдно.
216 – Я отработаю, отдам, – не выдержала молчания золовки
Ева. Скажи, что надо – сделаю. Может, кому сшить чего или перелицевать? Пусть не деньгами дадут, картошкой
или хлебом.
– Ишь, чего захотела – хлеба. Кто это у нас его досыта ест. И каждой картофелине счет ведем – на семена нужно оставить. А шить все равно не из чего: берегут всякую ветошку,
четверть катушки ниток под образа прячут.
На следующий день Настя пришла неожиданно веселая,
смотрела приветливо, даже с уважением. Так смотрят
на презренную сироту, у которой вдруг обнаружились богатые родители.
– Чуть не утонула в снегу, пока добралась к вам.
На этот раз она не сердилась, а смеялась. Вытащила из мешка и положила на лавку кочан мороженной капусты и три картошины. Помедлив, достала из–за пазухи смятый
солдатский треугольник письма.
– Твой весточку прислал.
Ева несмело протянула руку, развернула листок…
– Давай прочту, ты ж по-нашему не умеешь. Балакать научилась, а буквы не знаешь.
От волнения солдатка не могла вслушаться в отдельные
слова, она знала главное; раз написал – значит, любит, нужна ему.
– Фотку твою просит, и чтобы с сыном вдвоем, – по-дытожила золовка страничку письма.
Всю жизнь Ева хранила это письмо, как свидетельство
права на надежду – он вернется к ней. То был ее самый главный и единственный документ на счастье. В пожелтевшем от времени, с выцветшими чернилами листке лежит маленькая фотокарточка, такую же она послала
мужу. На черном фоне светлеют Евин высокий лоб, головка и пяточка младенца. Она тогда же с помощью Насти
стала учить русские буквы, чтобы самой читать и писать
письма мужу. С нетерпением ждала, когда кончится зима, растает снег и подсохнет дорога в районный центр.
217
Там, в пристанционной избе, где размещалась билетная касса и военный патруль, нашла похожий на кладовку, закуток
фотографа. Обросший щетиной одноногий инвалид войны казался нездешним – городским. Он долго поворачивал
редкую по тем временам клиентку то в одну, то в другую сторону – искал позу, наклон головы. Сам уложил на колени сына, поправил складки пеленки и все приговаривал:
«Откуда в наших краях женщина с библейским лицом
мадонны. …Чистое, открытое лицо, только вот глаза горестные».
Как только пригрело солнце, выползли из своих изб обессиленные долгой спячкой старики, повеселели дети, расправили спины женщины. И Ева, как все вокруг, подняла
голову навстречу солнцу. Ей хотелось устремиться вперед, куда-то бежать, что-то делать важное, значительное,
но некуда ей было спешить в своем нетерпении. Ничего не оставалось, как осесть на землю – научиться у деревенских женщин вскопать и засеять огород, а потом
смотреть, когда проклюнутся первые всходы. Каждый росток обихаживала, словно живое существо. Оглядывалась
по сторонам, где бы подобрать подсохший коровий блин для удобрения, или накопать чернозему и обложить им зазеленевший кустик моркови. И воду, поливать огород,
черпала не из колодца, а из пруда – она там теплей. Сухая глинистая корка заброшенных грядок постепенно превращалась в сдобную землю.
К осени утеплили колхозный коровник, и вместо телят разместили в избе жены солдата только что разродившуюся
десятью визжащими поросятами хрюкающую свиноматку.
Душила густая вонь свинарника, потом ничего – придышались. «Может, это и есть жизнь, – думала Ева, – утром вставать вместе с солнцем, работать на земле, обихаживать скотину, собирать хворост на зиму. Тут уж не минуешь старый запущенный лес позади деревни: где ветку сухую сломаешь, где ягоду сорвешь или гриб.
218 Постепенно стали различимы запахи разных деревьев, трав.
Спустя год в колхозное правление пришло еще одно письмо из военной части, где служил Николай – спрашивали,
почему до сих пор жена солдата не обеспечена работой.
И Еву устроили санитаркой в участковую больницу. Наконец–то она стала зарабатывать живые деньги, на которые
можно купить хлеб и одежду. К тому времени всем в деревне стало жить легче – собрали урожай и выдали на трудодни просо, кукурузу и даже муку.
Вот только сына Еве пришлось оставить у свекрови, за что отдавала ей половину зарплаты. Деньги были большим
подспорьем родне. Мальчика не попрекали лишним куском, и приходящей на выходные матери он не казался бедным подкидышем. Бабушка сама вызвалась взять внука: «Куда ж ему деваться, ты с утра до ночи на работе, пусть у меня поживет».
Кончилось одинокое заточение, теперь целый день Ева была на людях. Задолго до прихода врачей обходила лежачих больных – обмывала, выносила судна; оглядывала
тех, кто уже поднимался после операции – не сводить ли кого в туалет, не перестелить ли постель. Убедившись, что больше никто в ней не нуждается, направлялась в свой чулан с ведрами, половой тряпкой и стопкой старого постельного белья на полке. Когда выдавалась свободная минута, чинила простыни или помогала поварихе на кухне
– очистить кастрюлю от пригоревшей каши, почистить картошку. Повариха тетя Глаша – большая, топором рубленная,
с единственным зубом во рту, грубым мужским голосом на все отвечала одним словом: «говно». «Говно, – сказала она о своем неудавшемся замужестве в юности, – грязь и мерзость, сбежала я от него после первой же ночи». Жила повариха с сестрой и племянниками. Сестра, наоборот, очень даже любила то, что тетя Глаша называла
«грязью и мерзостью», прижила троих детей, в которых
219
тетка души не чаяла, и все свои деньги тратила на них. «Племяше велосипед куплю», – делилась она с санитаркой
своей заветной мечтой.
У Евы тоже была мечта – обзавестись своим домом. Пока же снимала угол в избе стариков рядом с больницей. После работы домой не спешила, ее там не ждали; придет
– хорошо, не придет – тоже хорошо. Куда как лучше оставаться на ночь с тяжелыми больными, работать до изнеможения – заменять прачку, кастеляншу, завхоза.
Миновало лето и больше половины зимы с тех пор, как в ответ на письмо, в которое Ева вложила свою фотокарточку
с сыном, она получила фотографию мужа и несколько
слов о том, что у него все в порядке. Тут же стала искать самые важные слова для ответа, долго мучилась над разлинованным листком – хотела, чтобы понял, с каким нетерпением она ждет его, и в то же время не хотелось казаться слишком навязчивой. В конце концов, решила: зачем говорить о своей любви – он и так все знает. Написала про сына, о том, что Вовочка уже ходит, смеется, все понимает, и первое слово, которое произнес: «па–па–па». Нерасписанная, невенчанная жена подолгу вглядывалась в изображение бравого сержанта во весь рост; одну руку он опустил, другой держится за широкую бляху ремня. Глаза невеселые. «Скучает», – решила солдатка,
и запаслась терпением – до конца службы оставалось
полтора года.
Самыми тяжелыми оказались последние два месяца. Ева в нетерпении шила себе платье. Материал – шелковистый
сатин небесно–голубого цвета – купила у бабки, в избе которой снимала отгороженную ситцевой занавеской койку. Бабкин дед не хотел продавать, то был отрез, который
он подарил жене в день свадьбы. Пятьдесят лет минуло
с тех пор, как молодая пришла в семью мужа, заколготилась
по хозяйству, и так и не сшила себе обновы. «На что она мне теперь–то», – разводила руками бабка перед лежащим дедом. Дед отморозил себе ноги и с большим
220 трудом поднимался с постели только по большой нужде.
Ева любовалась тонкой, мягкой тканью, которую, как сказал дед, «сробили еще до революции, а тогда знали толк в вещах». Счастье, казалось, зависело от того, успеет
ли она сшить красивый наряд. Нужно спешить, ведь Николая за хорошую службу могут отпустить пораньше. Празднично было на душе; в тишине больницы Еве слышалась
музыка, танцующей походкой выносила судна и улыбалась, когда мыла полы. «Говно. Нашла чему радоваться», – говорила повариха. А другие, наоборот, понимали: «Много ли на бабьем веку светлых дней».
Молодой женщине не терпелось увидеть себя в новом
платье, в круглом вороте которого будет красиво смотреться стройная шея, а нежная голубизна сатина оттенит каштановый цвет волос. Ночью не могла уснуть – обдумывала: сделать складку на юбке спереди или сзади? «Если сзади, будет мяться, а спереди… Сделаю сзади – так шила себе свадебное платье Ривка – старшая сестра. Не дошила Ривка платье – началась война». Ева отогнала воспоминания о том, когда их с сестрой повезли в Германию на разных грузовиках, захлопнула и напрасную надежду когда–нибудь отыскать сестру. «…Может Николай
уже в пути. Успеть бы; рукав опущу ниже локтя, тогда платье будет и зимой хорошо смотреться. Только бы приехал
поскорей. Вдруг уже выходит из вагона, вскидывает на плечо свой вещмешок. Еще немного, и будет здесь, а мне еще не на что сменить старую, выношенную юбку».
Прошел, наконец, и последний месяц трехлетней разлуки.
Свои выходные дни Ева проводит с сыном у свекрови. Вот и сейчас, сидя за ужином, она ловит взгляды родных, но те отводят глаза.
– Что-то случилось? – допытывается Ева. – Николай уже должен вернуться…
– В армии по-всякому бывает, может, задержали.
221
Сегодня велят так, завтра все изменится, – уклончиво отвечает
свекровь. – Ты ешь, ешь.
Валентина, старшая золовка, молча хлебает щи.
Настя сосредоточенно очищает картошку и делает вид, что разговор этот ее не касается. Евин сынок тоже переводит взгляд с одной тетки на другую. Спросить бы сейчас Ивана, но его за столом нет, они с женой уже отделились,
зажили своим домом. Остается еще один член семьи Витя – Настин сын. Он не по-детски горестно вздохнул, и отложил надкусанный кусок хлеба.
– Настя, скажи, ты знаешь. Вы что-то скрываете от меня. Что случилось? Почему молчишь? Жив ли Николай!?
– Жив, жив, – отмахнулась та.
– Вовик, – так называл Витя своего двоюродного братика, – возьми мою свистульку, ты просил давеча, – и положил перед ним вырезанный из прутика свисток, с которым никогда не расставался. – Насовсем бери. Тебя папка бросил.
– Ты че? Че с тобой?! Очнись! – кричала свекровь побелевшей
Еве.
– Ну, женился он. И что с того, – как бы между прочим
заговорила Валентина. – Чего кручиниться, с дитем осталась, при мужике побывала, не то что я, вековухой сижу. Работу получила, не корячишься в колхозе, как мы, за трудодни… Колькин срок в армии вышел, и поехал он в Вологду погостить у дружка, с которым вместе служили. Там и остался, женился на его сестре. У нее дом свой.
– Дом свой… – повторила Ева. – Сюда–то ему некуда…–
медленно говорила она, – не жить же ему со мной в свинарнике.
Помолчав, добавила:
– Я не сужу…
Закричать бы сейчас в голос, избыть боль, но Ева молчала. И сынок замер, смотрит на мать округлившими222
ся темными глазами – неужели понимает или чувствует? Казавшаяся уже почти уютной изба свекрови увиделась, как в первый день приезда – чужой и убогой: закопченный потолок, перекосившаяся рама окна, ветхая дерюга на печи. Чужими показались сидящие за столом люди. «Зачем
я здесь? Уйти! Сейчас же, немедленно. Взять сына и уехать. Куда? Нас нигде не ждут. Здесь есть работа, огород. …Огурцы надо полить. Нельзя ждать до завтра, жарко, земля высохла».
– Пойду. – Ева поднялась и как-то боком направилась к двери.
– Попей чайку–то, пряники принесла, а не ешь… – говорила
вдогонку свекровь.
– Я с тобой! – вылез из–за стола сынок.
– Не надо со мной, уже поздно, ночь на дворе. Я к тебе завтра вечером приду. Мы погуляем.
– К станции погуляем?
– К станции…
– А когда мы на поезде поедем? – допытывался трехлетний
мальчик.
Ева брела к своему огороду. Тяжело ступать по земле
с выпотрошенной душой, то даже не боль, а зияющее отверстие – ничто – пустота. «Прижать бы сейчас к себе сынишку – полегчало б. Как же мы будем жить с ним – он в одном углу, я в другом? Тропинка, на которую обычно хватало
нескольких минут, на этот раз показалась бесконечно долгой. Подумалось, как в день приезда: сколько здесь ни шагай, все равно никуда не придешь. А когда в темноте достала спрятанные на огороде ведра и направилась к пруду за водой, увидела стоящего у соседней избы мужика.
«Жидовка, проклятая! – закричал он на всю деревню. – Когда уберешься отсюда!?» Голоса парней, что собирались
неподалеку у сельпо пить водку, смолкли. Еве показалось
– сейчас они направятся сюда, будут бить. «Ишь, заграбастала огород! Распашу весной твои грядки. Все мое будет! Старая!..» – сосед с остервенением сплюнул,
223
и медленно, вразвалку ушел в избу. «Сумасшедший он, – утешала себя Ева, – с дочкой, как с женой живет, а жену выгнал или она сама ушла; больница ее сейчас в богадельню
устраивает. А что старая я – это он в самую точку попал, сказал, о чем болит душа. Я старше Николая, а та, другая, небось, краснощекая девчушка. И брат у нее есть, и хата своя. Ничего тут не изменишь», – решила Ева, и опустив ведро в чернеющий пруд, зачерпнула воду.
Ночью неожиданно быстро уснула. Три года ждала, боялась – вдруг не приедет, свернет куда-нибудь по дороге.
Иногда, ни с того ни с сего, приходила уверенность – обязательно вернется, и тогда все вокруг оживало – наполнялось
какой–то особенной значимостью. Чаще случалось
наоборот – надежда гасла; от уныния и страха земля уходила из под ног, все становилось пустым, зряшным. Теперь жизнь определилась, ждать некого, и страх отпустил.
…Брошеной женщине снилось, будто волокут ее по усеянному булыжником полю – голова стучит по камням.
Лето сменилось зимой, зима – летом, и снова зима. Еве, казалось, без разницы – солнце ли, дождь, холодно или жарко. Листались страницы дней, листались годы. Санитарка стала неотъемлемой частью больницы, никто уже не удивлялся ее необычному имени, не вспоминали, что еврейка. Евреи – они вроде как нелюди, а Ева женщина
добрая, работящая. «Сядь, отдохни, – говорили ей медсестры, – уже всю работу переделала». Но та находит себе дело – лишний раз протереть пол, навести порядок в своей кладовке. Не может сидеть, сложа руки: какие только
мысли не лезут в голову. Кажется, если остановится – остановится какой–то моторчик внутри, и сломается она как, заводная игрушка. Целый день на ногах. «И что она там робит?» – смеются девчата–медсестры.
Ночью, уставшая до отупения, нянечка–уборщица укладывается в свою отгороженную занавеской от стариков–
хозяев постель – как в гроб ложится. В первые минуты усталость берет свое – Ева засыпает, но вскоре
224 будто кто будит толчком, не дает забыться. Чего только не вспоминает, когда лежит с закрытыми глазами: широкие крашеные половицы в родительском доме, вышитые голубыми
и синими нитками васильки на шаббатней скатерти. Привиделся, как наяву, темно-русый затылок Менахема, что сидел впереди нее на сионистском кружке. О чем тогда
говорили почти взрослые мальчики? Кричали, спорили. Менахем к ней ни разу не обернулся. Потом увидела себя девочкой, одну в заросшем клевером поле перед огромным
быком. Бык надвигался наставив рога… девочка превращается
во взрослую изможденную женщину–поломойку,
только она почему–то обнаженная.
Случалось, ранним весенним утром, выйдя из дому, Ева останавливалась, пораженная красотой деревни: будто впервые видела высокий зазеленевший тополь на пригорке; к нему, словно к стражу, лепились подсвеченные
восходом избы. Рядом с яркой зеленью тополя сияющая белизна распустившегося куста черемухи – аж дух захватывало. Начинался день, и, казалось, начинается
новая, под ликующие клики пробуждающихся птиц, слитная с природой, жизнь. Подчинившись порыву, Ева снимала обувь – под босыми ногами осыпалась с травы роса, упругая земля отталкивала вверх в небо – туда, где исчезает чувство времени. Может быть, жизнь и есть один такой удивительный день. Живут же бабочки всего лишь один день. И ни о чем не думать, не вспоминать. Но что-то сопротивлялось в ней такому решению, наверное, всплыли
из подсознания услышанные когда–то слова: «Бог создал
человека, чтобы разговаривать с ним…»
Деревня обустраивалась; открыли новую школу–семилетку,
построили баню, клуб. На Первое мая и Седьмое ноября приезжал духовой оркестр из областного центра. В сельпо появились разные товары. Мальчики подросли, выучились – кто на тракториста, кто на шофера. Стали больше зарабатывать, и пить стали больше. Вот и Федька,
Настин сын, заматерел, мужиком стал. Свекровь
225
дряхлела, усыхала Валентина – старшая сестра бывшего
мужа, увядала Настя. Ева помнит, как страстно она мечтала, чтобы ее полюбили в этой семье; сразу же, как приехала, мысленно начала устраивать судьбу золовок, отдала Валентине привезенный отрез на юбку – решила: ей нужней.
Со временем поняла: здесь, в деревне, люди с похожими
судьбами, и ничего они не могут изменить в своей
жизни – выбирать не из чего. Мало что зависит от их старания. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое» – это о том, что своего ничего нет. Пьют от невостребованности. Молодые, сильные парни звереют; пьяному ничего не стоит убить человека. Праздник, которого ждут как единения,
братства, кончается дракой, поножовщиной. И нет смысла искать виноватых. За кажущейся в первые дни загадочностью
местных жителей Ева увидела безразличие, вынужденное смирение тех, у кого нет выбора.
Бывало, в праздники сидит она с родней – на столе бутыль самогона, студень, квашеная капуста. Выпьют, забудутся во хмелю – песни поют протяжные, тоскливые. И женщина из Польши тоже чувствует себя русской березкой
или тонкой рябиной, которая качается на ветру и никак
не может перебраться к дубу – дуб на другой стороне реки. Ева уже смирилась со своей судьбой – «век одной качаться», готова замерзнуть и ямщиком в степи. Только участь эта должна миновать ее сына – он ни при чем. Не дожидаясь конца застолья, она забирала своего мальчика,
и шли они вдвоем, как два изгоя или заговорщика, по дороге на станцию.
Воскресает в памяти день, когда впервые увидела
эту проселочную колею. Тогда цвел клевер. Сейчас – осень, дорога среди скошенного поля размокла, ноги скользят, разъезжаются.
– Когда тебе было десять лет и ты жила не здесь, у вас тоже был праздник седьмого ноября? – начинает мальчик прерванный в прошлое свидание с матерью разговор.
226 – Нет, в это время у нас был осенний праздник Кущей.
– Я помню, ты рассказывала. Это когда люди соберут урожай, и чтобы не зазнавались, что у них всего много – на всю зиму хватит, – переселяются жить в шалаш с крышей из веток. Смотрят сквозь ветки в небо и разговаривают с Богом.
– Этот шалаш суккой называется. Первый раз такие жилища евреи построили, когда Бог вывел нас из египетского
плена.
– Значит, и меня тоже?
– И тебя.
– А зимой какой будет праздник?
– Зимой? Масленица с ряжеными, кажется, в те же дни, что и наш Пурим. Тоже все рядятся, надевают маски, чтобы не узнать друг друга.
– А в разных зверей можно?
– Можно.
– Я хочу быть зайчиком.
– Почему именно зайчиком?
– Он потому что никого не ест.
– Так ведь тебя, зайца, съедят, – с отчаяньем подумала
Ева, но промолчала. Стала рассказывать сыну о спасении
в Персии, о египетских казнях, о чудесах в пустыне, где евреи кружили сорок лет, пока не вошли в Землю Обетованную.
– Мы тоже там будем, – решил мальчик и добавил: – Бабушку с собой возьмем, и Витьку тоже.
Долгое одиночество позволяло Еве быть иной, не давало забыться в чужом окружении. Велвл–Володя понимал
свою с матерью инаковость: «Мы с тобой одни, потому что уедем?» – спрашивал он. Иногда возможность вернуться в Польшу казалась почти реальной. Стоит только кому-то написать, куда-то обратиться. Но кому и куда? И спросить не у кого.
– У нас в гостиной над столом висела люстра…
227
– Что такое люстра?
– Хрустальный абажур…
– Сверкающий? А что такое гостиная?
– Большая комната, где все собираются за большим столом.
– А спят где?
– В спальнях.
– Разве бывает много комнат в избе?
– Конечно… – рассеянно подтверждает Ева.
– А в одной из комнат Иванушка–дурачок на печи лежал,
ему пироги сами в рот прыгали, – не то шутя, не то серьезно говорит мальчик.
– Никому в рот пироги не прыгали, все работали. Интересно,
кто сейчас живет в нашем доме и листает наши книги?
– О чем написано в тех книгах?
– О том, что все должно быть по справедливости, по правде.
И тут же Ева прикусывает язык, – вдруг сын ее прошлое
представит своим будущим; мало ли какие мысли появятся в детской головке, или расскажет кому-нибудь.
Мальчик и сам начинал замечать, что не такой, как местные дети: продолговатый разрез темных глаз, удлиненное
лицо, прямой нос. В дедушку пошел – отца Евы. «Неужели и грусть передается по наследству?» – думала она, глядя в глаза сыну. «Он у тебя как ангел, – говорила учительница в школе, – не дерется, не сквернословит».
Кончался выходной, и санитарка возвращалась к своим
ведрам, половой тряпке и тяжелым больным. Те из них, кому удавалось выписаться из больницы не на тот, а на этот свет, приходили с подарками хирургу, палатному врачу, иногда медсестрам. Про Еву забывали – нехитрое дело утку подать или тряпкой по полу возить. Да она и не ждала подарков, спасибо, работа есть. Вот только бы скопить денег и купить хоть какую избу–развалюху, отремонтировать
ее и забрать к себе сына. А пока работала,
228 не поднимая головы, и один день ничем не отличался от другого, разве что праздники, когда особенно чувствуешь свое одиночество.
Самым тяжелым днем было 9 мая. В День Победы, когда на улице играл духовой оркестр и все ходили нарядные,
бывшая заключенная концлагеря не находила себе места. Смотрела в окно на тех, кто уцелел на фронте – они при медалях, орденах. «А я кто?» И выходило – никто.
«Не воевала, орденов не получала. Они герои – на своей земле, говорят на своем языке. Ну а то, что война меня обездолила, обрекла жить чужой жизнью, так до этого никому дела нет. Никто никогда не поздравил меня с Днем Победы».
Так, наверное, и листались бы Евины дни – с заботой о сыне: валенки ли купить, пальто ли справить; беспокойством
об огороде – вовремя посадить, окучить, урожай сохранить
до следующей осени. Она уже давно усвоила, как квасить капусту, грибы сушить, какую траву и когда нужно класть под койку, чтобы не водились клопы. А того, что ее не касалось, не замечала – ну, унесла кастелянша новое вафельное полотенце домой, списала как ветошь. Нет ей дела и до того, что толстуха–медсестра Клаша уходит с ночного дежурства к недавно выписавшемуся из больницы
худосочному конюху Никифору. Пусть себе милуются. Что из того, что у него семья, здесь, наверное, так принято.
А там – дома, было по-другому. «Ты самая хорошая жена», – говорил папа. Мама смеялась: «Это ты хороший муж, и мне ничего не остается, как стать такой же». Не могла Ева представить своего отца с другой женщиной, кроме матери, а рядом со своим бывшим мужем могла вообразить
всякую. «Чужое, значит, у меня было счастье», – решила она.
За беспрерывной работой, бывало, наваливалась усталость, не тела – души, кончались силы взбадривать себя надеждой на чудо, пусть не для себя, для сына. И тогда, по ночам, сквозь дрему бессоницы мерещился ей в
229
бескрайней степи чахлый костер, огонь то вспыхивает, то гаснет – пламя отрывается ветром. Снова тьма, и снова усилием воли Ева раздувает тлеющий огонек надежды.
Из окружающих людей Еву больше всех интересовала
Ксения Ивановна – лучший хирург в области. Они ровесницы – обеим давно за тридцать. Так уж случилось – глянули друг на друга, все поняли, и возник между ними безмолвный диалог. Ксения Ивановна тоже выделяла санитарку,
уважала за стойкость, за то, что находит в себе силы быть не такой как все. Обе маялись. Только Ева глушила себя работой, а Ксения Ивановна, женщина казалась
бы, благополучная – муж, двое детей, находила отдушину в романах с мальчиками. А как еще назвать двадцатитрехлетних врачей, которые только вчера получили
диплом и приехали сюда по направлению института. Начала Ксения Ивановна с Сережи–анестезиолога. Он, понятное дело, поначалу противился – зачем ему медведица
неуклюжая. И все–таки уложила она его к себе в постель.
Все городским вином угощала, из тех бутылок, что больные дарили. Потом пристрастился, ходил за ней хвостом
– просил выпить. Все знали, для чего они запираются
у нее в кабинете. Уволили анестезиолога – руки стали дрожать. На его место прислали Андрея – обходительный, внимательный, и тоже молоденький, после института. Косолапая,
неопрятная Ксения Ивановна выглядит рядом с тоненьким, всегда в отглаженной рубашке Андрюшей, как домработница. Зато умная, хваткая, самых тяжелых больных из всей округи к ней посылают.
Ксения Ивановна возит Андрюшу в Воронеж на всякие
конференции, один раз даже в Москву ездили. Придумала
какую–то работу вместе делать – научное открытие. Под эту работу обещала Андрюшу в столичную ординатуру
пристроить. Мальчик не мог преодолеть соблазна – клюнул. Вот уже чай пьют вместе, еще не запираются, но Ксения Ивановна смеется все громче, призывней.
230 Жалость к не преодолевшим искушение юнцам не гасила восхищения хирургом – какая волевая, сосредоточенная:
справляется с тем, что не по силам мужчинам. И ведь не боится, оперирует даже тех, которые могут умереть
под ножом.
Ева давно свыклась с ролью свидетеля чужих дел и судеб. Однажды, когда утром убирала кабинет хирурга, хозяйка пришла неожиданно рано, и Ева поразилась горькой
скорби на лице этой сильной, невозмутимой женщины. Ксения Ивановна тут же увидела себя глазами уборщицы – свою растерянность, беду.
– Тебе кажется, если главная за операционным столом,
значит, железная, – бросила она Еве.
Та промолчала.
– Знаю, все судят меня. И ты тоже. Злопыхают на мой счет, как же – муж, дети. А что вы знаете обо мне? Да сядь ты, наконец, не махай тряпкой, работаешь как заведенная.
Давай выпьем, – Ксения Ивановна достала початую бутылку и разлила по стаканам дорогой коньяк. – Выпей, и тебе полегчает. Думаешь, не понимаю жизни твоей. Молчишь,
прячешься. Вот и я молчу. Никто не знает, что когда дети были маленькими, муж изменял мне со всякой девкой,
ночевать не приходил. А я терпела, куда денешься с двумя – одному год, другой только родился; ни денег, ни жилья. Теперь дом на мне держится, я добытчик, обслуга, еще и сопли должна утирать своему законному. И только для того, чтобы у детей был отец. Я мужчина – и на работе и дома, а хочу быть женщиной. Вот и этому, – Ксения Ивановна
кивнула на висящий халат анестезиолога, – нянькой
служу, хлопочу о делах его, не знаю, чем потрафить. Все даю, даю, только даю – привораживаю. Обо мне бы кто подумал. Так хочется хоть чуть-чуть побыть женщиной – слабой, беззащитной. Не получается. Вот и приходится быть сильной – мужиком. А мужики берут женщин, вот и я беру. ...Ладно, считай ничего тебе не говорила, так уж под настроение пришлось. Перейдем к делам нашим. Кто
231
у нас сегодня назначен на операцию? – Ксения Ивановна придвинула к себе стопку с историями болезней, и Ева вышла из кабинета.
«У каждого своя забота, – думала санитарка, выслушав
откровения хирурга, – а мне бы хоть какую, хоть плохонькую
избу, сынок уже большой, и без меня один дома управится. Колхоз богатеет, построили новый свинарник, коровник; теперь с одного взгляда не пересчитать стадо коров. Может, уступят мне в сельсовете избу подешевле, ту, которую мы делили с телятами и свиноматкой. Правда, крыша там провалилась, но стены из толстых бревен прочно стоят».
– Продайте, – подступилась Ева к председателю, – изба все равно пустая, никому не нужная.
– И много ты дашь? – с сомнением в Евиных сбережениях
спросил недавно присланный из района новый председатель Егор Кузьмич; человек немолодой, медлительный,
обстоятельный.
– Все отдам! Все что есть.
– Вообще-то мы хотели организовать там склад удобрений
и запчастей. – Председатель степенно крякнул, переложил бумаги с одного края стола на другой, и ничего не выражающими бесцветными глазами уставился на Еву. – Сама понимаешь, лишнего помещения у нас нет.
– У меня там огород, да и место это мы с сыном давно обжили. Тысячу рублей скопила. Хватит?
– Ну что ж, это деньги. – Егор Кузьмич замолчал, и Ева никак не могла угадать, какие же мысли ворочаются в его широком, нависающем над белесыми бровями, лбу. Наконец, решил:
– Меньше, чем за полторы тысячи не отдам. Дом не мой, социалистическая собственность. Понимать надо. Люди скажут: новый председатель разбазаривает колхозное
добро.
– Тысячу сейчас, а остальные в долг. Постепенно выплачу.
Не сбегу.
232 – Это конечно. Куда денешься. Ладно, по рукам.
Председатель, никогда не принимавший самостоятельных
решений, явно сомневался, правильно ли он распорядился тем, что ему не принадлежало.
«Дом свой! – радовалась Ева удаче. – Починить бы крышу скорей, и рамы сменить нужно». В первое же воскресенье
пошла с сыном на станцию в магазин стройматериалов,
прицениться, во что обойдутся доски, гвозди, три рулона толя на крышу и кирпичи – печку переложить. Еще за работу уплатить нужно. В больнице недавно плотника взяли, Артема Петровича, его попрошу. Может, сторгуемся.
На предложение Евы заработать Артем Петрович, или как его попросту называли – Петрович, долго чесал затылок
– соображал, стоит ли браться за такую хлопотную работу: крышу чинить – это тебе не табурет сколотить.
– Я заплачу, – уверяла Ева.
– Знамо дело, уплатишь, – проговорил плотник, высокий
седой мужик в кирзовых сапогах. – Пойдем, покажешь свои хоромы.
Не в силах сдержать нетерпение, домовладелица забегала вперед. Петрович не спешил. Ева останавливалась,
ждала, когда тот поравняется с ней, несколько шагов
шли рядом, потом он опять оказывался позади, и она снова ждала, пока нагонит.
– Да–а–а, – тянул Петрович, оглядывая избу. – Тут работы – начать и кончить.
– К осени управитесь? – замирая от страха, вдруг откажется, спросила хозяйка, и заглянула в лицо всемогущему
плотнику.
Тот ворчливо осматривал, ощупывал углы:
– Тебе и бревна кой–какие поменять надо, ну а потолок,
само собой, по новой стелить.
Вот уже месяц Артем Петрович занимается Евиной избой: пилит, строгает и, как залог усердия и верности делу, принес и оставляет на ночь деревянный ящик со
233
своим инструментом. А хозяйка все спрашивает – какая работа сколько будет стоить. Петрович не отвечает. Иногда,
когда хозяйка снова и снова справляется, что почем, бросает: «Не обижу. Рассчитаемся». Все дольше, чуть не до ночи, задерживается он: то обрезки досок сортирует – собирается изгородь чинить, то расчищает место для сарая – раньше об этом разговора не было. «Может, нарочно
время тянет, – думает Ева, – хочет побольше денег содрать с меня: сколько, мол, времени работал – плати». А Петрович не спешит, все медленнее машет топором, все чаще оглядывается на хозяйку. Наконец, она поняла, о какой расплате идет речь – недавно овдовевшему плотнику
нужна женщина. И Ева стала держаться поближе к двери. Угрюмый мужик–крестьянин старше на двадцать лет не будил в ней романтических чувств. «А вдруг денег
не возьмет?! Будет работать, все сделает, а денег не возьмет. Куда ж тогда деваться. Придется лечь, тут же на досках и завалит. Нет уж, лучше деньгами расквитаюсь». Голос Евы стал резким, отрывистым, движения угловатыми:
боялась, как бы невзначай неосторожным жестом не подстегнуть решимость Петровича. Неприветливость заказчицы расхолодила мастера, он то приходил, то отказывался,
все чаще пообещает, и не придет. И деревянный ящик с инструментом уже не оставлял на ночь в недоделанной
избе. Говорил, что его в другом месте давно ждут.
Только к осени, когда зарядили дожди, крыша заблестела
новым толем, а рамы и косяки дверей – свежеоструганным
деревом.
– Сколько я вам должна? – с опаской спросила хозяйка.
– Пятьсот.
Произнес тихо, но получилось, как выстрелил, и убил наповал.
– Так много! Сказали бы раньше, я ведь сколько раз спрашивала. Может и подешевле с кем сторговалась бы. Я думала…
234 – Ты думала – дурака нашла. И дать не дала, и еще чтобы задарма работал.
– Да нет, я заплачу.
«Пусть так, – думала Ева, – так лучше, чем если бы не взял денег. И никуда бы я тогда не делась, от благодарности
спала бы с ним. Кто знает, может и привязалась бы – полюбила за доброту. Только вот как же теперь обернуться
с деньгами. С председателем договорились – подождет,
а Петровичу нужно сразу… Ксению Ивановну попрошу,
может, поручится за меня в бухгалтерии и выдадут мне зарплату вперед за несколько месяцев».
Утром до обхода врачей, когда хирург обычно бывает одна в своем кабинете, уборщица хотела постучаться к ней. Но услыхала за дверью голос Андрея-анестезиолога, и решила зайти в другой раз.
Артем Петрович пристраивал в больнице веранду, ходил
мрачный, злой, и если случайно сталкивался с Евой – отворачивался.
Подкараулив момент, когда Ксения Ивановна осталась
в кабинете одна, Ева постучалась, и, дождавшись ответа, вошла. Хирург, только что вернувшаяся из операционной,
что-то поспешно писала в истории болезни.
– Хочу попросить вас…
– Говори.
– Дом я купила. Мы теперь с сыном вместе живем.
– Знаю.
– Артем Петрович крышу сделал, крыльцо починил. Расплатиться с ним нечем. Может, выдадут зарплату вперед,
– мялась просительница.
– Как это – нечем расплатиться? – неожиданно расхохоталась
Ксения Ивановна. – Ведешь себя, как барышня нецелованная. Он же с первого дня, как устроился к нам, глаз на тебя положил. Выходи за него замуж, и денег не понадобится.
– Так ведь…
– Ну да, старый. А где ты сейчас молодого найдешь?
235
Раз–другой переспать сыщется. А чтоб женился – таких нет и не предвидится. Не из кого выбирать. Спета твоя песенка. Бери, что есть. А то и этого схватят, не засидится.
Не одна ты тут такая безмужняя. В девках который год ходишь. Не обижайся, дело говорю, добра тебе желаю. А денег я тебе дам, из своих одолжу.
Вечером, возвращаясь с работы, Ева увидела возле своего дома Артема Петровича – они с сыном разводили во дворе костер. Мальчик, счастливый вниманием мужчины,
спешил выполнить его указания, бегом сносил в огонь короткие обрезки досок, стружку. «Смолу топить будем, – с гордостью объяснил он пришедшей матери. И по-хозяйски добавил: «Нижние венцы просмолить надо, а то сгниют».
Артем Петрович, чисто выбритый, с гладко зачесанным
седым чубом и застегнутой до последней пуговицы на воротнике рубашке, не смотрел на Еву. Та, потоптавшись во дворе, ушла в дом собирать ужин. Уже давно стемнело, когда хозяйка поставила на стол свое нехитрое угощение – вареную картошку, овощи с огорода и припасенную на всякий случай консервную банку килек в томате.
Первым к столу бросился Володя. «Это не дело, – заметил
Артем Петрович, – перед едой нужно мыть руки». И они, поливая друг другу, стали оттирать сажу, прилипшую смолу. Ева смотрела на них, и холодный осенний вечер показался ясным весенним утром – раскололся лед, и поплыли
льдинки по сверкающей на солнце воде.
«А сегодня Артем Петрович придет?» – спросил Володя
у уходившей на работу матери. Та не знала, что ответить,
и мальчик продолжал:
– «Может, придет, вчера говорил, забор чинить надо, а то скоро совсем завалится».
Возвращаясь из больницы, Ева зашла в сельпо, купила свежего хлеба, две селедки и бутылку красного вина. При виде Артема Петровича уютней стало на душе, он показывал
сыну, как нужно крепить доску и держать рубанок. Ужинали
молча. Освещенные керосиновой лампой мужчина, женщина и мальчик со стороны казались дружной семьей.
236 К зиме Артем Петрович переехал жить к Еве, принес уцелевшие с войны брюки–галифе, хромовые сапоги и почти новую телогрейку. Дом свой оставил шестнадцатилетней
дочери. Девочка выходила замуж, и Ева шила ей из белой бязи приданое – три простыни и две сорочки. А когда подарила свое единственное нарядное голубое платье, что спешила сшить к приезду Николая, невеста бросилась ей на шею: «Мама!» Так с тех пор и звала падчерица мачеху мамой. На свадьбе Ева сидела, гордая любовью невесты.
Первые дни Артем Петрович не мог нарадоваться своей семейной жизни; жена между своей и мужней тарелкой
выбирала тарелку мужа и лучший кусок клала ему. Ловкая, быстрая она починила его белье, совсем уж заношенные брюки и даже подстригла сама. «Я никогда не был таким пригожим, – оглядывал он себя в зеркало. – Все умеешь! Не удивлюсь, если и валенки мне скатаешь
». И как-то очень уж быстро освоился с положением примака, осчастливившего хозяйку своим присутствием. Первые, благодарные четвертой жене ночи, сменились холодностью и рассчетливостью. В отличие от Николая, у которого Ева была первой женщиной, Петрович головы не терял. Он и с женой спал, как дело делал – облегчал себя. А у новобрачной, наоборот, появилось чувство зависимости,
захотелось, чтобы муж обнял, приласкал. Теперь ощущение сиротства стало острее. Чаще вспоминались письма, которые когда–то в другой жизни присылал ей двоюродный брат, он же жених Хаим–Эммануил. В одном из них приводил слова из Талмуда: «При каждом зачатии ангел спрашивает Бога, станет ли человек сильным или слабым, мудрым или глупым, богатым или бедным, но не спрашивает, станет он злым или добрым. Это единственное,
что зависит от нас самих – все в руках Бога, кроме того, станешь ли ты праведником или грешником». «Два имени – Хаим и Эммануил – два ангела должны оберегать
тебя, – мысленно обращается Ева к несостоявшему237
ся жениху. – Жив ли ты? Мне бы остаться верной тебе. Не получилось. Где ты и где я. Ты писал, что жизнь человека продолжается в бесконечности, и я будто шла за твоими словами. А теперь мне идти некуда. Вот, обзавелась наконец
своим домом; можно спрятаться от дождя и пурги. Врастаю я в эту чужую землю вместе со своим домом. Если не я, пусть бы сынок уехал отсюда. Только куда ж ему деваться. Был бы ты жив – позвал».
«Не прогадал, – говорили Артему Петровичу сельчане.
– Ты теперь обстиранный, кормленный».
– Небось, скоро захочешь мне подарок купить, – сказал
он жене после нескольких дней супружеской жизни, – ну там рубашку или еще чего.
– Я уже хочу, – подтвердила та.
– И я тебе что-нибудь подарю. Может, сапоги резиновые
куплю? Нет, и старые еще носить можно. Хочешь кофту? И кофта у тебя еще не рваная. Ничего не подарю – все у тебя есть.
Невольно подражая матери – других примеров семейной
жизни не было, – Ева с утра пораньше, прежде чем уйти на работу, готовила завтрак, прибиралась в избе. Мама звала отца «Иценька», а у новобрачной язык не поворачивался
назвать Артема Петровича «Артюшенькой». Так и остался он для нее, как и для всех деревенских, – Петровичем. Общих тем для разговора не находилось; после того, как обсудили, в каком месте за избой поставить
скворечник туалета, сколько мешков картошки потребуется
на зиму и какую живность заводить, говорить стало не о чем.
Спустя несколько месяцев повариха в больнице – грубая немногословная тетя Глаша, которая на все отвечала
одним словом «говно» с неожиданной нежностью спросила забеременевшую Еву: «Пустишь на белый свет поглядеть?» И Ева поразилась – неужели это все, чего ждут деревенские от жизни – поглядеть на белый свет? Родился светлолицый, черноглазый мальчик Мишенька.
238 «Моше – Машиах, – повторяла про себя Ева, – может быть, ты будешь тем, кто нас отсюда вытянет».
Артем Петрович любил сына, но не забывал и о себе, о своей давнишней мечте – купить мотоцикл; деньги, без которых, он считал, жена обойдется, складывал в заначку. А у Евы было свое на уме – хотела завести стайку гусей. Гусиные шкварки – воспоминание о достатке в родительском
доме, когда все были сыты и любили друг друга.
Само собой случилось так, что ребенок и все домашние
дела – кухня, огород, коза, куры, – оказались на Еве. Мишеньку, когда уходила на работу, относила бабке в соседнюю избу, возвращалась с работы – забирала. Старший сын старался помочь матери, но та не хотела отрывать его от уроков.
Петрович все больше лежал, не только просьба, но даже намек жены, чтобы помог ей, вызывали злобу, раздражение.
Ничего не оставалось, как делать все самой – так легче. Время от времени лежебока взбадривался, хватал за ляжку снующую мимо жену и, подмяв под себя, впивался как клещ. В первое время их совместной жизни Ева старалась изобразить ответную страсть, но устав притворяться, стала терпеливо ждать, и как только муж отваливался, спешила встать. А Петрович лежал, развалившись,
с обнаженными чреслами – царь природы.
– Подпол бы углубил, – как бы между прочим, сказала Ева.
– Я тебе на землеройные работы не нанимался. Скажи
спасибо, что мужик тебе достался ого–го!
– Я и без мужика обходилась, – бросила Ева, а про себя подумала: «Какой уж там «ого–го». Невольно вспомнился
первый, Николай – тот отдавал себя, наполнял счастливой слитностью со всем окружающим, будь то дубовая аллея в парке при чехословацком госпитале или безбрежное поле здесь в деревне, куда они уходили чтобы
побыть вдвоем. Достаточно было прикосновения руки, взгляда – и их накрывала волна желания, и так же вместе
239
выплывали из сладкого беспамятства. Слова говорил ласковые.
Они были нераздельны и когда молчали – сидели на пруду, ловили рыбу. Николай забрасывал леску, а она, прижимаясь к нему, боялась кашлянуть, чтобы не спугнуть
поклевку.
Велик соблазн рассказать Петровичу о первом – желанном,
ну, да зачем на скандал нарываться. «Если что поперек скажешь – с дерьмом смешает. Уйти все равно не уйдет, и мне некуда деваться».
– Сколько всего переделал, а тебе все мало, – злобно ворчит Петрович.
– Но я–то каждый день кручусь с утра до ночи.
– Ты женщина, а я мужчина.
«Близкий человек оказывается вовсе и не близким. Ждешь от него помощи, защиты, а получается наоборот – от него нужно защищаться. Но не уходить же мне из своего дома, и его не выгонишь. Хоть ребенка любит, и то хорошо. И не подбираю я его пьяного под забором, как другие бабы. Не бьет. Чего мне еще хотеть. Жить можно», – решила Ева, и смирилась: что есть, и за это спасибо.
Пришло время Велвлу–Владимиру получать паспорт, и приехал его отец. Не могут два человека разминуться в маленькой деревне, даже если они страшатся встречи. Тем более не могут, что дорога от Евиного дома до магазина
проходит мимо избы свекрови.
Николай сидел на крыльце – читал газету. Они одновременно
увидели друг друга – он поднял голову в тот момент, когда она оглянулась на него. Встал, подошел к бывшей жене. Ева первая нарушила горькое молчание:
– Здравствуй… Как живешь?
– Живу…
Потоптавшись, она направилась в магазин. Он пошел следом.
С трудом вспоминала, что нужно купить, продавщица о чем–то спрашивала, но она не слышала. Потом провожал
до самого дома, нес ее сумки. Корил себя, что не вер240
нулся к ней, никого он больше так не любил. Обмолвился о деньгах – не было у него денег, оттого и не помогал. Говорил еще о чем–то. Слова доносились будто сквозь толщу льда. Запомнилось главное – жалеет ее. Плакала потом, когда он ушел.
Смирение, готовность принимать все как есть, словно ветром сдула гордость за сына. Ева не была свидетелем первой и последней встречи Володи с отцом, но о чем был разговор, сын рассказал. Отец предлагал ему сменить фамилию Гольдвассер на его – Федоров: «Зачем тебе быть евреем?». Мальчик отказался, сказал, что фамилия матери его устраивает, и спросил: «А где ты был, когда мы со свиньями жили и ели то, что замешивают им в пойло?» Верному матери сыну в паспорте записали «еврей». Евреем
же пошел он в армию.
И стала Ева жить от письма до письма. Три года, что ждала Николая, прошли легче и быстрей, чем ожидание возвращения сына. Какие только страхи не лезли в голову.
Маленький Мишутка отвлекал, но ненадолго, то был общий с Артемом Петровичем ребенок. А Володя – только
ее: с ним она выжила в хлеву под дырявой крышей, ему рассказывала о своем отце и матери – его дедушке и бабушке, которых он никогда не видел, и он же, единственный
здесь, кто знает, чем отличается русская пасха от еврейского песаха.
От страха за сына стал воскресать в памяти пережитый
ужас концлагерей, слишком часто была свидетельницей
тонкой, едва ощутимой грани между жизнью и смертью.
Вот есть человек, и нет его – не дышит, не откликается. «Кто-то ведет на небесах счет годам нашим, – думала Ева, – пусть мои лета прибавятся Велвлу–Владимиру, и если мне начертано хоть какое везение, пусть оно станет его удачей». Как бегун на длинную дистанцию экономит силы, ныряльщик рассчитывает под водой запас воздуха, так Ева приготовилась ждать своего старшенького.
241
Из писем его знала – служит в Сибири, под Красноярском,
рядом с быстротечной рекой Енисей; солдаты помогают лесхозу сплавлять лес. Природа там удивительная,
писал сын – отвесные горы – «столбы» называются, невиданные в средней полосе России огромные кедровые деревья. И Еве виделось, как ее Велвл прыгает в широкой бурной реке с одного бревна на другое – устраняет шестом
заторы. Как бы не поскользнулся, не упал. Бревна громоздятся друг на друге все выше, выше… Чтобы не быть задавленным, ее мальчик ныряет… наконец выплыл…
На него надвигается торец бревна, опять голова под водой, и Ева мучительно ждет – вынырнет ли. Одна картина представлялась страшнее другой.
Чего только не наслушалась она об армии – и бьют там, и унижают; сержанту чуть ли не по званию положено глумиться над новобранцами, мол, над ним издевались, теперь он мучит других. Письма Володи становились все суше, короче.
– Места себе не находишь, – злился Артем Петрович. – Твой сын особенный? Лучше других? Все служат. Ты обо мне беспокойся.
– А что о тебе беспокоиться: ты здесь, рядом.
– Ты дом когда покупала, на кого оформила?
– На Володю, ты же знаешь.
– Но сейчас положение изменилось.
– В каком смысле изменилось?
– Сейчас у тебя есть я.
– И что с того?
– И есть еще сын. Мало ли что может случиться.
Обессилев от возмущения, Ева молчала. В следующее
мгновенье, едва сдерживая вспыхнувшую ярость, медленно заговорила:
– Я не могу, не хочу думать о плохом. Все будет хорошо.
Только благодаря Володе я выжила здесь, только ему была нужна все эти годы.
– Он, когда вернется, с нами жить собирается? – не
242 унимался Петрович, но увидев решительное лицо жены, заговорил миролюбиво:
– Ладно, поживет месяц–другой, а там женится.
Ева потихоньку от мужа стала копить деньги. На работе ли кто просил подменить, или удавалось продать
гусиный жир, перья; теперь стайка гусей от калитки к пруду становилась с каждым годом длинней. Был доход и от сменившей козу коровы, масло ли кто спрашивал, или домашний сыр.
Прижимистому Артему Петровичу не прививалась доброта жены; в первые дни их совместной жизни она купила ему из своих сбережений новый добротный пиджак,
отнесла сапожнику его хромовые сапоги – поставить новые кожаные подметки. И для полного подтверждения главенства в доме предложила заведовать домашней кассой: «Ты хозяин, ты веди счет деньгам». Предложение обрадовало мужа, даже глаза засветились, от возбуждения
забегал по избе. Такого с ним никогда больше не случалось.
Главное, тоже решил проявить великодушие: «Я хочу подарить тебе рубашку, а то ты, как девочка из детдома,
в рванье ходишь». И вот они однажды в районном центре зашли в магазин купить Еве подарок. Рубашку она выбрала самую дешевую, а когда пришло время платить, увидела, как дрожат его руки над кошельком, и поспешила
расплатиться сама – благо, что в кармане оказались деньги за внеурочное дежурство.
Хозяйство расширялось – прибавлялось забот. Теперь
Ева вставала совсем уж рано. «Опять вскочила, как сумасшедшая», – злился Петрович. Почему–то именно по утрам его разбирало желание. И чтобы муж не ухватил ее и не завалил, Ева держалась от постели подальше: понимала – она для него что-то вроде утренней зарядки, чтобы не усох предмет его мужской гордости. Ей же было не до гимнастических упражнений – только успевай, поворачивайся.
Петрович не спешил подниматься: в больнице плотницкие работы кончились, а больше его никуда не
243
звали. «Тебе же в удовольствие топтаться по хозяйству», – отвечал он на жалобы жены, что устает. И Ева крутилась:
дома чистота и порядок, огород и скотина обихожены,
даже хлеб сама пекла.
Подрастал младший сын, лица родителей светлели, когда он возвращался из детского сада. Темные, с длинными
ресницами глаза, нежный овал лица и кудри до плеч делали Мишеньку похожим на девочку. Не по годам внимательный взгляд ребенка удивлял всех. Случалось, останавливался перед незнакомым человеком, долго и пристально смотрел на него, потом мог подойти, взять за руку и заглянуть в глаза, словно спрашивал: «Что же ты стоишь – пойдем». Взрослые поражались бесстрашию малыша, начинали с ним сюсюкать, заигрывать. Мальчик не отвечал на попытки играть с ним как с маленьким, разворачивался
и уходил.
Хоть и скрашивала любовь к младшему ожидание старшего, Ева считала дни. Как и двадцать с лишним лет назад она смотрела на дорогу от станции, вглядывалась в каждый увиденный вдали силуэт – не сын ли ее.
Однажды зимним утром, в снежную пургу пытаясь открыть на улицу дверь больницы, Ева почувствовала неожиданное
облегчение – кто-то снаружи тянул дверь на себя. Отнесенная ветром створка распахнулась – перед Евой стоял румяный с мороза высокий кареглазый солдат в затянутой ремнями шинели. «Какой красивый!» – с восхищением
подумала женщина, не в силах оторвать взгляд от сияющих глаз запорошенного снегом юноши. И тут же услышала: «Мама!» Ева испугалась – не мираж ли? Это ее сын?! «Мама», – повторил Володя, и Ева заплакала.
Вся больница сбежалась смотреть на Евиного сына, его помнили еще мальчиком, когда приходил к матери помочь
натаскать из колодца воды, растопить печку. «Счастье–
то какое! Совсем взрослый стал! – приговаривала суровая повариха Глаша. – Иди, иди домой, я подменю тебя, ты–то сколько раз меня выручала».
244 Артем Петрович обрадовался встрече с пасынком, сходил по такому случаю в магазин и купил бутылку на свои деньги. Ближе к вечеру стали собираться гости;
пришли дружки, с которыми учился Володя, родня – Валентина с Настей, Витька с женой, а свекровь не дождалась внучка – померла. Ева вытащила из подпола спрятанную трехлитровую бутыль смородиновой настойки,
зажарила двух гусей и сделала яичницу из тридцати яиц на противне: «Ешьте гости дорогие, не каждый день случается такой праздник». Гости улыбались, жали Владимиру
руку, хлопали по плечу – «Какой богатырь стал!» А мать видела: сын вернулся другим человеком – замкнутым,
тревожным. Только один раз осветилось в улыбке его лицо – когда маленький Мишутка протянул ему свой игрушечный самосвал. А когда обнимался с Витькой, Еве показалось – чуть ли не всплакнул. Витька был старше своего двоюродного брата на пять лет, и всегда защищал его от деревенской шпаны. «Кто тронет – морду смажу», – говорил он, и Володя получил право быть не таким, как все – не пил, не сквернословил, не дрался. «А в армии он оказался один против такой же шпаны, как здесь, – осенило
мать. – Видать настрадался там».
Ева давно заметила разницу между двоюродными братьями, еще когда те детьми были. Витя – природный человек: возвращается из лесу с полной корзиной грибов, знает, где искать какую ягоду, лихо ныряет, плавает. Он и армию легко отслужил. А Володя – всегда в себе, не оглядывается
по сторонам, под ноги не смотрит. Рассеянный, о чем-то думает.
Мать всматривалась в сына, но тот отводил глаза. Дознаться бы. Сколько раз подступалась с расспросами, – Володя молчал. Спустя две недели он уже работал в колхозе
шофером на самосвале. Приходил домой не один, а вместе с поджидавшей его на дороге нескладной Зинкой – своей бывшей одноклассницей. Была она не по годам
245
хмурая, отчего и звали ее в деревне не по имени, как всех девок, а по отчеству – Филипповна. Пока Володя служил, пригожие невесты определились, осталась эта. Ни дурой, ни лентяйкой никто бы Филипповну не назвал, она даже училась в заочном педагогическом техникуме, но работы по специальности не нашлось, и ничего ей не оставалось, как мыть в школе полы. Не о такой жене мечтала Ева для своего сына. Думала, мало ли что изменится, пока придет время ему обзаводиться семьей. Будущая невестка представлялась
приветливой, миловидной. Пусть не еврейка, где ее возьмешь здесь, но и не такая угрюмая, смотрящая куда-то мимо тебя. «Но ведь пока не собирается жениться,
и еще все может сложиться по-другому», – утешала себя мать.
Случилось, как-то Ева с сыном остались дома одни. По радио шла передача об ударнике коммунистического труда – комбайнере Дрищенко.
– Какая некрасивая фамилия, – заметила Ева.
– Лучше быть Дрищенко чем Гольдвассером, – выпалил
Володя, и смолк, понял – обидел мать. В следующее мгновение, чтобы загладить вину, продолжал:
– Я один из всех солдат был евреем, в бане меня оглядывали со всех сторон, били, издевались. Иначе как «евреем» не называли; не было у меня ни имени, ни фамилии. Никогда евреев не видели, а не любили. Почему?
Почему, когда в первый год службы солдат отбирали в военное училище, меня не взяли, хоть и были у меня лучшие результаты по всем испытаниям на сообразительность.
Вот и Зинка говорит: «Ни одна дура не возьмет твою фамилию и детям не даст». Зачем ты мне рассказывала сказки о несуществующей жизни?! Где твой волшебный город Иерушалаим, на поиски которого я собирался отправиться
в детстве? Не нужно мне всего этого! – Володя хотел добавить что-то злое, но осекся – пожалел мать.
Артем Петрович все больше хмурился. С приездом пасынка он перестал быть в центре забот жены, а он не
246 любил такого. Мрачный лежал на постели, смотрел в потолок
и серел от злости.
– Пусть скорей женится и мотает отсюда, – бросил он Еве.
Может та бы и пропустила эти слова мимо ушей, но муж при этом сделал нетерпеливый жест рукой, означавший
желание поскорее выбросить пасынка из дому. Петрович увидел окаменевшее лицо жены и смолк, сориентировался
что к чему: если придется выбирать, она выгонит его.
Однако раздражение, желание избавиться от любимчика
жены, которому она не знала, как потрафить, оказалось сильнее благоразумия. В следующий раз Петрович
кричал и совал Еве в лицо пустую бутылку из–под самогона:
– Твой сын всю мою поллитру выжрал!
– Ты же знаешь, он не пьет, – миролюбиво заговорила Ева, сдерживаясь изо всех сил. Она боялась мужа, боялась
его мстительности: по деревне ославит всякого, кто скажет о нем дурное слово.
И все–таки не доглядела мать, проворонила ссору; вернувшись с работы, увидела забившегося в угол малыша
и мрачно молчавшего Артема Петровича. Сразу все поняла – ушел ее старшенький. Не нужно было особого повода, чтобы выплеснулась сдерживаемая злоба мужа. Володя, как всегда, не отстаивал своих прав – развернулся
и ушел.
– Хватит ему в женихах сидеть, еще зимой приехал, а сейчас уж и лето прошло. Понимать надо. Зинка его давно
к себе зовет, – суетился Петрович, видя как мрачнеет жена.
Ева отступила к порогу, и от греха подальше, выбежала
из избы. Не заметила, как миновала свою улицу, больницу, кладбище, и оказалась на дороге к станции – на дороге своих надежд. Здесь она высматривала своего
старшенького, ждала его отца, отсюда мечтала уйти
247
с Велвлом из засосавшей ее чужой жизни… Вокруг ни души. В густеющих клубах облаков быстро тухнут красные отсветы спустившегося за горизонт солнца. «Что я могу изменить?! – в отчаянии думает Ева. – Не случись Петровича
дома, не кинулся бы сейчас мой мальчик к этой злыдне.
Не любит он ее, не светятся счастьем его глаза».
Сколько раз, не замечая того, Ева наделяла своим состоянием страха и безнадежности сына. Ей казалось, что и он устал, и ему хочется разом покончить со всеми мучениями. Боялась за него и, не дожидаясь ответа, слала
ему в армию одно письмо за другим. Хотела наполнить его чувством защищенности, чувством дома. А дома, оказывается,
нет.
Артем Петрович, требуя к себе почтения, придирался по всяким пустякам. Если принимался что-нибудь пилить или строгать, не вздумай Ева подойти, чтобы подмести опилки, взорвется как бешеный: «Я работаю на вас, стараюсь,
а ты лезешь со своей метлой!» Никогда нельзя было предвидеть, что явится причиной его раздражения. Как-то Ева показала маячившему по избе мужу на стул:
– Сядь.
– Ты что мной распоряжаешься! Я тебе собака? Ишь, приказывает – «На место! Сядь!» Ты еще скажи – «К ноге!»
– Я ничего такого не думала, – оправдывалась Ева.
– Всегда командуешь мной. Баба, значит, шея, а мужик
– голова. Куда хочешь, туда и повернешь. Не выйдет!
– При чем здесь шея и голова, я если что и говорю, то только по здравому уму. Закололи свинью весной, мясо по хорошей цене продали, а если бы ждали до осени, как ты говорил…
– Я, значит, дурак по-твоему!?
Будучи «умным», Петрович ел только свежеприготовленное.
Глядя на жену, подъедающую остатки вчерашнего обеда, говорил:
248 – Ты очень много ешь. А я – мало.
– И что?
– Я экономный, а ты – нет. Но уж если чего захочу – вынь да положь.
При этом доставал с верхней полки буфета коробочку, где лежало его «сладенькое», на эту заветную коробочку не только Ева, но и Мишутка не посягал.
Ева замыкалась в себе, молчала. «Как есть. Все лучше,
чем одной: за ребенком присмотрит, сена накосит. Попросишь, так и с работы встретит, когда иду ночью со второй смены».
Ничто не забывается, прошлая жизнь – она же и настоящая.
Оказавшись в Израиле, Ева, как и прежде, спрашивает себя: «Что я могла изменить?» И понимает: «Ничего». Новая жизнь началась со съемной квартиры со старыми диванами и поисков необходимой утвари.
– Дома все было, а тут с черепка нужно начинать. Смотрите, сколько всего выставили, кружки еще хорошие, миски, – говорит новая репатриантка возле мусорного контейнера подошедшей к ней женщине, и показывает свою находку – красный эмалированный чайник в белый горошек.
– На первых порах, – улыбнулась полная, еще не старая
блондинка, – я начала с того, что подобрала на помойке
стул. Зайдем ко мне, я рядом живу, в соседнем доме. Мы вчера с дочкой собрали лишнюю посуду, посмотрите, может что сгодится. Чайку попьем, а то не люблю я одна за стол садиться.
Ева отряхнула подол ситцевой юбки; она всегда так делала, когда разгибалась над грядками своего огорода. Удивившись и обрадовавшись доброжелательности незнакомой
женщины, сказала:
– Может, сначала ко мне заглянем, я как раз плюшки с творогом испекла. Квас поспел.
249
– Ладно, сначала к вам, потом ко мне, – засмеялась блондинка и тут же спросила:
– Как вас звать?
– Ева Исаковна.
– И мою маму звали Ева, – воодушевилась неожиданная
собеседница. – А меня – Софья, это все равно, что Сара.
– Мою младшую сестру звали Сара, – вздохнула Ева.
– Удивительно, разбросало нас по свету, а имена все те же…
Спустя несколько минут, оглядывая Евину комнату, гостья спросила:
– Откуда вы приехали?
– Из села Воронежской области.
– И родились там!?
– Родилась в Польше.
– Как же вы оказались в русской глубинке?
– Любовь привела.
– А–а–а… Дом свой, хозяйство продали?
– Внуку от старшего сына отписала. У меня ведь уже и правнуки есть. Ничего для них не жалко. Детей младшего сына сюда привезла.
Помолчав, продолжала:
– Не в том дело, что нужно начинать новую жизнь с чайника и сковородки: там, в селе, меня все знают. Как-то стою на остановке, у нас в последние годы автобус до железнодорожной станции пустили, подходит мужчина, и горсть конфет мне в карман кладет. «Ты, – говорит, – спасла
меня, я уж помирал, а как ты клизму потихоньку от врачей сделала, – сразу ожил». Так и не вспомнила того человека, мало ли кому я делала клизму за пятьдесят с лишним лет, что работала в больнице. А здесь я никому ничего хорошего не сделала. Никого не знаю, и меня никто
не знает. Одна, как к небу булавкой пришпилена. – Ева прикрыла глаза, и на лице ее сразу стали заметней глубокие
морщины, скорбь.
250 – И здесь обзаведетесь друзьями, было бы внукам хорошо, – нахваливая плюшки, говорила приехавшая пять лет назад из Кишинева Софья. – В Израиле у молодежи больше возможностей. Это с одной стороны, с другой – все свое мы возим с собой. Мне хоть до пенсии еще далеко, но все равно мы с вами люди одного поколенья – знаем, что почем. А дочка моя – как металась в Кишиневе, так и здесь места себе не находит. Умная, красивая, а вот беда – не прилипает она к мужикам. Стоит очередному кавалеру к ней привязаться, тут же теряет к нему интерес. Начинает с того, что загорается любовью: обхаживает его, готовит, подает,
улыбается, ласковая кошечка. Проходит два–три месяца,
и уже он жарит котлеты и развешивает белье, а она в постели валяется, толстеет. Только я начинаю привыкать к зятю, а у нее уже новый друг: того выгнала – раздражает ее. Перед тем, как завести нового кавалера – садится на диету, худеет. Железная воля, две недели ничего не жрет, одну воду пьет. Как только очередной хахаль дает слабинку
и позволяет собой командовать – у Майки стимул пропадает: распускается и снова набирает килограммы. За пять лет, что мы здесь, четырех сменила! От одного, видите ли, плохо пахнет, другой – мямля, третий – не умеет
машину водить. Болезнь у нее, что ли, такая?
– Вы бы страдали еще больше, если б не она, а ее бросали, – заметила Ева, поставив на стол высокий каравай
хлеба, – попробуйте, сама пекла.
– Не надо ни того, ни другого. Почему просто не жить? Про мужчин я такое слышала: стоит женщине отдаться душой
и телом – сразу же его тянет на свободу. И за что мне такое наказание? Чего я только не вкладывала в Майку – музыке учила, возила в лучшую школу на другом конце города. В семье у нас такого никогда не было. И ведь что интересно, все малахольные на нее косяком идут, попадись
сильный мужик, скрутил бы – не пискнула. Ей уже тридцать лет, и ни мужа, ни детей. А ваши сыновья…
– Нет моих сыновей, – сникла Ева. – Владимира, стар251
шего, пьяный бульдозерист задавил: стал давать задний ход и размазал своего прораба по стенке. Не могла я смириться
с его смертью – все на могилку ходила, сяду на скамеечку,
и вроде мы с ним рядом, вместе, как бывало. Разговариваем.
Дед мой меня с работы стал встречать чтобы я на кладбище не заворачивала… И младшего, Михаила, шофер на автопогрузчике убил, тоже выпивший был. Я, когда с Мишенькой это случилось, сразу почувствовала неладное. Все от меня на работе глаза отводили, сказать боялись, ведь одного сына я уже похоронила. А как узнала,
кинулась к тому месту. Но что я могла сделать. Три дня дышал. Чуть с ума не сошла. Белый день почернел. На ногах
не стою, а нужно собирать на стол, поминки справлять. Недолго прожили мои сыновья, а то бы горя не знала. Не могу вспоминать… Мишенькина жена быстро сдала, от тоски померла; не жилец она оказалась без него на этом свете. Любовь у них была. Подошел он к девочке в детском саду, взял ее за руку, и больше они не расставались. Наверное,
и там – на небесах – вместе: не глядели по сторонам.
Каждый самую тяжелую работу спешил на себя взять. Дети сиротами остались. В деревне мне бы их не поднять, вот и привезла сюда. Пока детям нужна, надо жить.
– Почему раньше не приехали? – подавленная горем соседки, спросила Софья.
– Старик мой болел, после смерти Мишеньки ослеп с горя. Бывало, сядут внучата ему на колени, он гладит их по головкам и плачет. Потом слег. Несколько лет лежал, ухаживала за ним. Всяко в жизни приходилось… Я не таю на него зла. Сколько лет прожили вместе, а так и не узнала,
каким он был в молодости – блондином или брюнетом: я с ним седым познакомилась. На первого мужа, Николая, тоже не обижаюсь. Каждый по-своему живет, как может. И Николай умер, пьяный рыбачил с лодки и утонул.
– Как в деревне отнеслись к вашему решению уехать?
– По-разному. Одни радовались за меня, другие гово252
рили: «Евреи хитрые, всегда лазейку найдут. А что номер концлагеря на руке, так это каждый может татуировку нарисовать
».
– Жена старшего сына с детьми не захотела ехать? – вживалась Софья в Евину судьбу.
– Она даже слышать об этом не хочет, детей на свою фамилию записала. На порог не пускает, когда кто из Сохнута
приходит. У сыновей Владимира – уже свои дети. У меня двое правнуков. Вот выправлю пенсию, поеду в деревню проведать их. На кладбище с сыновьями посижу.
Там между их могилками и мне место оставлено. На памятнике старшего так и написано «Гольдвассер Владимир
». Не было в округе таких фамилий…
– Не думайте о мертвых, там прах, а здесь вы нужны живым. Ваша немецкая пенсия поможет детям.
– Да, вся моя радость во внуках, я бы не выжила без них. Вспоминаю родных – плачу, вспоминаю концлагерь – плачу, а посмотрю на детей – душа радуется. Светка на медсестру учится, важный экзамен хорошо сдала, а Ивану скоро в армию идти. Сейчас работает. Слава Богу, работа есть. У нас в деревне, как перестройка началась, все развалилось, людям негде работать, только и живут со своих огородов.
– Я, как ни зайду к вам, - разглядывая фотографии Евиных внуков, заметила гостья, - все никак не могу застать
ваших Светку с Иваном. Какие они высокие, видные! В кого бы это? Вы – маленького роста.
– Да, я ростом не вышла, и это помогло мне выжить в концлагере. Убавила три года, выдавала себя за тринадцатилетнюю.
Женщина одна научила. А внуки в невестку пошли, в ее породу, резниковскую.
– Как вы говорите, резниковская?
– Ну, да, фамилия ее – Резник.
– Так это ведь еврейская фамилия! Резник – все равно,
что шойхет, - означает профессию человека, который режет скот.
253
– Не знаю, в Польше среди наших не слыхала, - насторожилась
Ева.
– А на Руси - были и есть. Фамилию давали по роду занятий. Например, Пивоваров, Меламед, Кучер. Может, какой крещеный кантонист был прадедушкой твоей снохи.
Ева не сводила с Софьи глаз, и та продолжала:
– Кантонисты – это еврейские мальчики, которых при царском режиме забирали в солдаты на двадцать пять лет. Крестили и давали русские имена, а у кого была очень уж еврейская внешность, оставляли с прежними фамилиями. Кто знает, может, бедная вдова, у которой забрали сына, кричала Богу, чтобы ее мальчик остался евреем. Вот и оказались в Израиле потомки той вдовы.
– Кто знает… – эхом повторила Ева.
В комнате стало необыкновенно тихо, казалось, присутствует
кто-то незримый, третий.
Женщины разом вздохнули.
– Ничего мы про это не знаем, – проговорила гостья, – а вот, чувствуем…
В Израиле люди сходятся с полуслова, взгляда, улыбки. Не прошло и нескольких дней, как Ева с Софьей, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, стали подругами, почти родственницами. И Софья знает, что расчитывать можно только на себя, на свою зарплату. Сейчас получает пособие и ухаживает за стариками.
– И кому ты сейчас помогаешь жить? – спрашивает Ева.
– Бабке из Франции, она еще до войны в Израиль приехала. Да ее и бабкой не назовешь; девяносто лет, а все перед зеркалом крутится. Маникюрша, педикюрша на дом приходят. У нее когда–то здесь в Иерусалиме был магазин готового платья. Открывает шкаф и примеряет один наряд за другим; наденет какую–нибудь блузку из прошлого века, и начинает подбирать к ней юбку, все переберет.
Потом велит мне подать коробку с украшениями и прикидывает к своему наряду одну нитку бус за другой.
254
Цепочки, браслеты, серьги – тоже проблема, нужно чтобы одно оказалось в стиле с другим. Большие бриллианты и изумруды сын унес, она и не заметила этого; у нее и без них полно сокровищ – не упомнить. Вы бы видели, с каким восторгом она примеряет шляпы – и с одного боку любуется
на себя в зеркало, и с другого. Вся выпрямится. А какое лицо! Герцогиня! Старая, а все никак не может забыть, что была победительницей мужчин. Я, понятное дело, что-то вроде приказчика в ее магазине. Заговаривается бабка. Говорю ей: «Мадам, одевайтесь, мы сегодня с вами идем к врачу». А она оглядывается на включенный телевизор – там диктор последние известия передавал – и возмущается:
«Как же я могу при мужчине панталоны надевать! Он же смотрит!» Или начинает мне рассказывать о том, что вчерашний вечер провела с очаровательным месье: «Мы пили чай и ужасно смеялись». Оказалось, это был очередной герой мексиканского сериала. И смех и грех. Уберите от меня ваш хлеб, – прервала свой рассказ Софья,
– никогда не думала, что домашний хлеб может быть таким вкусным. Это ж как отдельное блюдо, не могу оторваться,
все ем и ем.
И тут же спросила:
– А в Польше не удалось побывать?
– Была. Как погиб мой младшенький, тогда и поехала. Хотела вдохнуть родного воздуха; думала, может, легче станет, из кровной родни кто найдется – горе мое разделит.
Хотела слушать и понимать идиш, польский. Приехала
в родной город Жарки, это маленький городок, на идиш называется Дюриг. Прошлась по улицам, и не встретила ни одного еврея. Зашла в цветочный магазин, там продавщица
указала: «Вон за тем поворотом ваши единоверцы живут». И поправилась: «Жили». Я и сама знаю, где жили. Нашла я одного старожила, он показал мне место братской
могилы, там и моя семья. Две недели, говорил, земля
колыхалась после расстрела. Нет, не стало мне легче оттого, что побывала на родине.
…А в Иерусалиме я уже начинаю привыкать. Не нужно
таиться, что ты не такая как все. Город старый, но он же и новый – все начинается сначала. На каждом месте хочу представить – а что здесь раньше было. Все в толк не возьму, как мы в разных странах среди чужих остались евреями. Ладно бы, жили на одном месте. Помню, отец с матерью говорили о Палестине, и мне казалось, будто мы сидим на собранных в дорогу чемоданах – поезда ждем. Я одна доехала. В деревне вроде как привыкла; дом не худой был, огород ухоженный, скотина разная; а все инородицей
себя чувствовала. Сначала хотела, чтобы своей признали, а потом – нет, думаю, уйду из жизни, какая пришла.
Сейчас сосед за стенкой по субботам псалмы поет, и отец мой пел те же псалмы. Очень божественными были евреи в Польше, в синагогу ходили, а как немцы пришли, мы первыми пострадали, как селедки лежали на земле в лужах крови. Не только немцы, но и поляки грабили, убивали.
Сколько времени прошло, а все как перед глазами стоит. Помню, как дрожали руки за корку хлеба и кружку кипятка. Забудусь во сне, и не могу различить, что сейчас, а что привиделось. …Девочкой – куда-то спешила, чего-то ждала, боялась опоздать, пропустить самое важное. …Старая стала, ноги болят, спина, а душа – та же, что и была. О женихе своем – брате двоюродном – думаю, словно зовет меня: «Хава, Хавеле», – и я иду к нему на встречу. Тогда, в юности, бежала вперед, а сейчас возвращаюсь
обратно – к нашему несостоявшемуся свиданию; и кажется, начнется другая жизнь. Из всего, что он мне писал,
чаще приходят на ум слова: «Бог – это воля к жизни». Вот только не пойму: зачем так много страданий? Ведь в страхе душа каменеет, теряет Бога… Хаим–Эммануил стал для меня важнее бывших мужей. Странно – остался со мной тот, кого надумала, а тех, что по жизни были – не вспоминаю. Выходит, если вымечтала, то и больше запал в душу…__
Связь с редакцией:
Мейл: acaneli@mail.ru
Тел: 054-4402571,
972-54-4402571

Литературные события
Литературная мозаика
| Сертифицированные бриллианты |
|---|
| |
Литературная жизнь
Литературные анонсы
Афиша Израиля. Продажа билетов на концерты и спектакли
http://teatron.net/Внимание! Прием заявок на Седьмой международный конкурс русской поэзии имени Владимира Добина с 1 февраля по 1 сентября 2012 года.
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие во Втором международном конкурсе малой прозы имени Авраама Файнберга. Подробности на сайте.
| Сертифицированные бриллианты |
|---|
| |
Официальный сайт израильского литературного журнала "Русское литературное эхо"
При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.