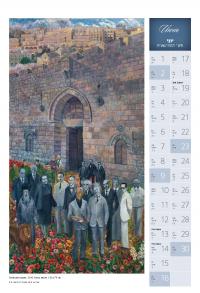| РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Литературные проекты | |
| Т.О. «LYRA» (ШТУТГАРТ) | |
 |
|
Литературные анонсы
Опросы
| 0% | нет не работает |
| 100% | работает, но плохо |
| 0% | хорошо работает |
| 0% | затрудняюсь ответит, не голосовал |
|
Спонсором литературных проектов является Алмазная биржа Израиля. Поиск цветных бриллиантов по базе биржи. |
«МНЕ НА ПЛЕЧИ КИДАЕТСЯ ВЕК-ВОЛКОДАВ»
«МНЕ НА ПЛЕЧИ КИДАЕТСЯ ВЕК-ВОЛКОДАВ»
Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Надо флейтою связать.
Осип Мандельштам.
1.
Поэтов серебряного века – мучеников советской эпохи – четверо. Мария Петровых писала в 1962 году в Комарове:
Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно видна.
Неугасимое созвездье!
Навеки врозь, навеки вместе.
А писатель Юрий Нагибин в 1991 году – год 100-летия со дня рождения Мандельштама – добавил: «Но даже в ряду отечественных поэтов, поэтов-жертв, участь Мандельштама беспримерна. Прежде всего сознательностью и твёрдостью выбора, именно выбора, а не пассивностью принятия. У него не было никаких иллюзий, когда он выбирал, он встал и пошёл».
Мандельштам, подобно Ахматовой, не только не помыслил об эмиграции после Октября 1917 г., но, подобно Блоку, с которым он не раз выступал на петроградских литературных вечерах, выразил явную готовность принять революцию. В оде «Сумерки свободы» (1918) Осип соглашается с революционными событиями, коль они произошли, с его страной: «Прославим, братья, сумерки свободы, // Великий сумеречный год!».
Будучи готовым к «скрипучему повороту руля» истории, поэт сознаёт, что наступили сумерки свободы – полумрак, и тема отчаянно пронзительно звучит в этой оде:
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идёт.
Любимый Мандельштамом образ ласточки – символ души, вольности, поэзии – здесь выступает в несвойственной и страшной функции. Уже не одна ласточка, а множество спаяно в боевой строй:
Мы в легионы боевые
Связали ласточек, - и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живёт.
Сквозь сети – сумерки густые
Не видно солнца, и земля плывёт.
Вскоре поэт убедился, что «десяти небес нам стоила земля». Осип пережил преждевременную смерть А.Блока, последовавшую фактически не только от недоедания, но и от нервного истощения, судьбоносного разочарования в тех, кого страстно призывал: «Революционный держите шаг!». В том же августе 1921 года пережил расстрел в застенках ЧК близкого друга, вождя акмеистов Н.Гумилёва, с чьей вдовой А.Ахматовой будет дружен до конца своих дней. А до конца жизни Анны Андреевны с ней будет дружить овдовевшая в 1938 г. Надежда Яковлевна Мандельштам.
Уже в 1923 году в стихотворении «Век» Осип, «заглянув в зрачки» новой эпохи, осознаёт, что «разбит твой позвоночник, мой прекрасный, жалкий век» и что «снова в жертву, как ягнёнка, темя жизни принесли». Мандельштам, физически не очень сильный человек, умевший по-детски заливисто смеяться, радуясь каждому проявлению жизни, знает, как ему надо поступить, «чтобы вырвать век из плена». Поэт осознанно готовится к главному шагу своей жизни, отсюда явно звучащий в его творчестве мотив жертвенности. Он готов «своею кровью склеить двух столетий позвонки».
Его биография изобилует фактами активной «милости к падшим». Ещё в 1918 г. он выхватил из рук чекиста Якова Блюмкина и порвал пачку ордеров на расстрел незнакомого ему искусствоведа и других невинных людей. В 1928 году, узнав о предстоящем расстреле пятерых стариков из «бывших», опять-таки незнакомых ему банковских служащих, Мандельштам требует отмены приговора, обращаясь к Бухарину. Приговор аннулируют.
Осип публично дал пощёчину высокорослому «красному графу» Алексею Толстому за несправедливое оправдание писательским судом Сергея Бородина (писавшего под псевдонимом Амир Саргиджан) – оскорбителя своей жены «голубки Наденьки». Этот инцидент имел место в апреле 1934 г., а в мае – первый арест Мандельштама. Многие современники усматривали прямую связь.
Мотив отщепенства всё явственнее звучит как в поэзии, так и в прозе Мандельштама с начала 30-ых годов. Большую часть 1930 года Мандельштамы провели в Армении. Эту поездку устроил покровительствовавший Осипу Н.И.Бухарин. Результатом явилась проза «Путешествие в Армению» и цикл стихов «Армения». Напомню, за публикацию второй части очерков был снят редактор журнала «Звезда» Цезарь Вольпе. Смелость некоторых мандельштамовских суждений восхищает и ныне, например, во фрагменте «Путешествия в Армению» - «Алагез» - читаем такое признание: «Ты в каком времени хочешь жить? – Я хочу жить в повелительном причастии, в залоге страдательном «в долженствующем быть». Так мне дышится. Так мне нравится. …Такую речь я вёл с самим собой, едучи в седле по урочищам, кочевищам и гигантским пастбищам Алагеза».
Из Армении в конце 1930 г. Мандельштамы приехали в Ленинград. Остановились у брата Осипа Евгения. Хлопотали о квартире, но в писательской организации было сказано, что в Ленинграде им жить не разрешат. Причин не объясняли, но перемена атмосферы уже чувствовалась во всём.
Между прочим, эта перемена атмосферы губительно сказалась и на семье моего мужа, израильского писателя Авраама Файнберга (1930-2010). Именно в начале 30-х годов бесследно сгинули в трясине ГУЛАГа его дед Исаака Файнберг, шауляйский, затем рыбинский раввин, и его 21-летний отец, иудейский резник (шойхет) Борух Гендт (Борис) Файнберг. С младенцем Авраамом, ставшим полусиротой, его мать Хана из захолустного городка Скопина Ярославской области переехала к родственникам в Ленинград, где через три года их ожидал Большой террор, связанный с убийством С.М.Кирова, а ещё через семь лет – фашистская блокада города.
Мандельштам раньше других почувствовал суть происходящих в стране перемен. Ещё в стихотворении, озаглавленном «1 января 1924 года», он писал:
Я знаю, с каждым днём слабеет жизни выдох,
Ещё немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
Именно после недружелюбной встречи по возвращении из Армении родились стихи: «Я вернулся в мой город», «Мы с тобой на кухне посидим», «Помоги, Господь, эту ночь прожить». Впервые поэт оказался чужим в родном городе:
Я на лестнице чёрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
В январе 1931 г. Мандельштамы уехали в Москву:
В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – считай насильно
Был возвращён в буддийскую Москву…
Осип, по свидетельству его вдовы, всегда чувствовал себя иудеем, наследником царей, пастухов и пророков, несмотря на переход в 1911 году в протестантство (не в последнюю очередь ради возможности быть принятым в Петербургский университет).
Надежда Яковлевна вспоминает во «Второй книге» о том, как Мандельштам хлопотал в 1922 г. перед тогдашним председателем Союза писателей Н.Бердяевым (ещё задолго до создания Союза советских писателей) о выделении комнаты В.Хлебникову:
«Бердяева застали на месте, и Мандельштам обрушился на него со всей силой иудейского темперамента (подчёркнуто мной – О.Ф.)…Требование своё Мандельштам мотивировал тем, что Хлебников величайший поэт мира, перед которым блекнет вся мировая поэзия, и поэтому заслуживает комнаты хотя бы в шесть метров». Вдова Осипа, которая в этот период жила с ним в писательском общежитии – флигеле Дома Герцена – поясняет: «В нашей квартире были такие клетушки на кухне».
Далее мемуаристка констатирует: «Бердяев был абсолютно беспомощен в хозяйственных делах, а за него орудовали дельцы, прикрывавшиеся его именем. И Хлебников уехал, Его просто выбросили из Москвы в последнее странствие». «Изгнание Хлебникова из Москвы – один из первых подвигов организованной литературы, отнюдь не продиктованный сверху, а совершённый по собственной инициативе».
Вскоре Мандельштамы сами столкнулись с предательством коллег (вспомним письмо В.Ставского Н.Ежову в 1938 году: строки письма – доноса с приложением внутренней рецензии певца сталинского счастья П.Павленко легли почти слово а слово в обвинительный приговор ОСО ( Особого совещания, заменявшего законный хотя бы формально суд), проложившего Мандельштаму путь в СВИТлаг (Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь) - последнее пристанище поэта.
Надежда Яковлевна с горьким сарказмом пишет: «Выгоняя очередного человека из Союза писателей, отправляя кого-нибудь в лагерь, тюрьму или на расстрел, добрые писатели делают вид, что они ни при чём, а только с горечью выполняют приказ начальства. А ведь если вдуматься, каково общество, таково и начальство».
Я привела пример с Хлебниковым, чтобы ещё раз подчеркнуть действенный характер гуманизма Мандельштама.
В 1933 году он побывал в Крыму, видел задушенную голодом Украину. Именно этот еврей-горожанин первым возвысил голос в защиту попранного коллективизацией крестьянства:
Природа своего не узнаёт лица,
И тени страшные Украины, Кубани.
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.
( «Старый Крым», 1933.)
Цитирую по тексту, уточнённому литературоведом Эммой Герштейн. Художник Осмёркин пояснил: земля названа войлочной, так как, покрытая опавшими листьями тамариска, напоминает войлок.
Осенью того же 1933 года Мандельштам пишет антисталинское «Мы живём, под собою не чуя страны», читает эти стихи довольно большому кругу знакомых. Видимо, кто-то среди них оказался стукачом (доносчиком).
«Часто приходится слышать: почему не нашлось на Сталина Занда, Шарлотты Корде, хотя бы Фанни Каплан? Почему же нашлось, только Мандельштам действовал не кинжалом или пулей, а словом. В дни рабьего молчания он громыхнул стихами:
…Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца».
Это строки из статьи Ю.Нагибина «Голгофа Мандельштама». Стихотворение, названное в протоколе допроса пасквилем, а также «Старый Крым» и «За гремучую доблесть грядущих веков» (1931) послужили непосредственным поводом для первого ареста Осипа Эмильевича 13 мая 1934 г.
2.
Приговор «мягкий»: три года ссылки в Чердынь, в сопровождении жены. До вынесения приговора – Лубянские будни: кормёжка солёным без подачи питья; карцер; смирительная рубаха… Когда Надежда встретила мужа после Лубянки, её поразили его перевязанные бинтами руки. В «лёгком» застенке томимый неизвестностью поэт пытался перерезать вены бритвой «жиллет». Уверенный в неотвратимости возмездии «душегубца и мужикоборца», в неминуемом предстоящем аресте, Осип загодя запасся бритвой и уговорил сапожника превратить подошвы ботинок в тайник.
Поездом до Соликамска, оттуда пароходом по реке Каме до Чердыни, которая входила в систему Вишерских лагерей и мест ссылок НКВД (Народного Комиссариата внутренних дел)…
Полноводная река Кама объединяет судьбы четверых поэтов, о которых писала Мария Петровых: «две сестры, два брата, изба о четырёх углах». Я не раз размышляла об этой связующей артерии, путешествуя по Каме и на теплоходе, и на современных быстроходных катерах на подводных крыльях.
Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.
В паутину рядясь – борода к бороде -
Жгучий ельник бежит, молодея, к воде.
Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.
И со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала – трёх конвойных везла.
(Воронеж, май 1935 г.).
И как продолжение темы:
Я смотрел, отдаляясь на хвойный восток –
Полноводная Кама неслась на буёк.
И хотелось бы тут же вселиться – пойми –
В долговечный Урал, населённый людьми.
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели – беречь, охранять.
Некоторые умники-исследователи вменяют в вину поэту именно строфы «Стансов» и других стихов камского цикла, вроде последнего приведённого выше двустишия или таких строк:
… А теперь пойми –
Я должен жить, дыша и большевея,
И перед смертью хорошея,
Ещё побыть и поиграть с людьми.
Однако мотив неволи, заточения явственно звучит в рефрене: «На вершок бы мне синего неба, на угольное только ушко!».
Внимательного читателя поразит провидческий дар Мандельштама, создававшего стихи о чердынской ссылке чуть позже, в Воронеже (в посёлке на Каме он пробыл всего две недели, после попытки выброситься из окна в чердынской больнице по ходатайству Надежды Яковлевны ему заменили место ссылки на Воронеж). Вдумаемся в строки:
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё – немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.
Здесь сопоставляются северные лагеря сталинщины (Арктика) – и рядом режим другого «садовника-палача», выращивающего в Германии своё поколение «юношей тепличных», причёсываемых на один лад «лиловым гребнем Лорелеи». Как это пророческое видение мира далеко от юношеской веры поэта в Русь и от влюблённости поэта всемирной культуры в германский гений: «Россия, Лета, Лорелея…».
3.
В Воронеже сначала давали работу на радио, в местном театре, но к осени 1936 года прекратилось и это. Жили на то, что присылали сочувствующие друзья: Вишневский, Шкловский, Ахматова, Пастернак. На обращение о трудоустройстве в обком партии европейски известному поэту ответили: «Вам надо начинать сначала: поступайте хоть сторожем или гардеробщиком и покажите себя на работе». Надежда Яковлевна уверена, что и это было враньём. Из бдительности не позволили бы стать и сторожем, как позже Цветаеву толкнули в петлю, не доверив «поста» судомойки в писательской столовой в Чистополе (тоже на Каме).
До сих пор ломают копья, споря о мандельштамовской «Оде» в похвалу Сталину, написанной в Воронеже. Этот отчаянный поступок загнанного в угол невольника не спас, но от потомков досталось. «Когда б я уголь взял для высшей похвалы, //Для радости рисунка непреложной»…Мифологизации «отца народов» отдали дань Пастернак, Заболоцкий. Вынужденно писали о нём гонимые Булгаков, Ахматова. Слова из песни не выкинешь…
Духовно-нравственную коллизию трагедии комментировала вдова поэта во «Второй книге» своих воспоминаний: «Взвинчивая и настраивая себя на «Оду», он сам разрушал свою психику».
Ещё зимой 1932-1933 гг., на вечере поэзии Мандельштама в «Литературной газете», то есть в пору относительного признания, Перец Маркиш сказал Осипу: «Вы сами берёте себя за руку и ведёте на казнь». Но поэт добровольно выбирает свою судьбу.
Дошедшая до читателей не только в России, но и за рубежом «Четвёртая проза» написана Мандельштамом в 1930 г. Названа так потому, что была четвёртой по счёту. Домашнее название прижилось. Впервые опубликована в США в трехтомнике, составленном Г.П.Струве и Б.А.Филипповым в 1966 г., а в СССР лишь в 1988 г., да и то не в Москве, а в Риге в журнале «Родник», через 58 лет после создания. Именно в журнале «Родник», привезённом доброхотами в Казань, я впервые познакомилась с крамольной прозой.
Это произведение сохранилось только благодаря «голубке Наденьке». Она сделала много рукописных копий с оригинала, записанного ею под диктовку мужа. Вдова свидетельствует: «Четвёртую прозу» мы никогда не держали дома, а в нескольких местах, и я переписала её от руки столько раз, что запомнила её наизусть». Далее: «В «Четвёртой прозе» О.М. (так в «Воспоминаниях» Надежды Яковлевны) назвал нашу землю кровавой, проклял казённую литературу, сорвал с себя литературную шубу и снова протянул руку разночинцу».
Корни «Четвёртой прозы» биографические, она возникла в период недолгой (меньше года) работы поэта в редакции «Московский комсомолец». Мандельштам-публицист пишет: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешённые и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешённые вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю».
Приговор Мандельштама бескомпромиссен: «На каком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намерение совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу – литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаю и календарным потребностям писательского племени, причём жертва намечается по выбору старейшин».
Осип Эмильевич продолжает: «Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почётным званием иудея, которым я горжусь».
Мандельштамовская этика актуальна и в наши дни.
4.
Приказ Сталина: «Изолировать, но сохранить» - потерял силу к маю 1938 года, когда произошёл второй арест Мандельштама в доме отдыха «Саматиха» под Москвой. По официальной версии приговора «тройки» (то же самое Особое совещание) его осудили за близость к эсерам в период учёбы в Тенишевском коммерческом училище (начало девятисотых годов, практически начало 20 века).
Тюремный вагон через всю Россию везёт узника во Владивосток. Имя сменилось на лагерный номер.
Журналист Эдвин Поляновский проследил хронику последних дней жизни поэта (очерк «Смерть Осипа Мандельштама», пять выпусков газеты «Известия» за май 1992 г.). Толчком к журналистскому расследованию послужило письмо из редакционной почты свидетеля гибели Осипа Эмильевича, тогда 24-летнего студента Московского института советского права Юрия Моисеенко, арестованного после убийства Кирова.
Моисеенко был с Мандельштамом в одной бригаде, вместе на «транзитной командировке» ожидали своей участи. Подолгу в пересыльном лагере невольников не задерживали, отправляя до бухты Нагаево, где тогда строился Магадан. Более десяти тысяч заключённых, мужчин разного возраста, были заточены в бараках и палатках.
«В ноябре нас начали заедать белые породистые вши, и начался тиф. Был объявлен строгий карантин», - вспоминал Моисеенко. Он рассказал, как перед Новым 1939 годом всех повели в баню на санобработку. Воды не было, велели раздеваться и вещи сдавать в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения, где было ещё холоднее. Пахло серой, дымом. Двое заключённых упали, один из них – Мандельштам. Держиморды-бытовики подбежали, вынули из карманов куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и написали на них фамилию, имя, отчество, статью, срок.
Как черны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна…
Трупы накапливали в особой палатке, увозили партиями. Мёртвые тела втаптывали в каменный ров, в одну могилу. Наверное, живы наследники тех держиморд, которые вырывали у мертвецов золотые коронки.
Памятник О.Э.Мандельштаму, с любовью изваянный скульптором В.Ненаживиным и установленный на Второй речке близ Владивостока (её ещё называют Чёрной речкой по аналогии с местом гибели А.С.Пушкина), современные вандалы облили краской.
На барельефе мемориальной доски, отмечающей один из воронежских домов, где жили Мандельштамы (он сохранился даже в период жестоких боёв Второй мировой войны), хулиганы оббили половину профиля поэта. Улицы Мандельштама до сих пор в Воронеже нет. Правда, во Владивостоке есть. Есть мемориальная доска в Москве.
Но существует другое мерило памяти – бессмертие поэзии.
На стёкла вечности уже легло
Моё дыхание, моё тепло…
5.
В Израиле интерес к соплеменнику не угасает. Появляются статьи о разных гранях его творчества, читаются лекции. Не стояли в стороне и мы с мужем. Одной из первых его публикаций в центральной прессе был очерк «Поединок с душегубцем» («Калейдоскоп», литературное приложение к тогдашней газете «Время» за 9 января 1997 г.). В художественно-документальную дилогию «Сверхдержава Авраама» (Тель-Авив, 1998), охватывающую культурное пространство всех 15 республик бывшего СССР, в большинстве из которых мы побывали, А.Файнберг включил эссе «Это какая улица?». Эти материалы, мои очерки о поэте, вышедшие в Казани ещё до нашей алии в октябре 1995 г., а также мой доклад на Международной конференции «Поэты серебряного века и еврейство» (Ашкелон, 1998) мы послали в Мандельштамовское общество при Российском гуманитарном университете в Москву. В ответ получили несколько нужных книг. В информационном письме Мандельштамовского общества и кабинета мандельштамоведения за январь-март 2000 г. была информация и о нас: «11 мая 1999 года в русскоязычном клубе «Туркиз» в г. Ашдоде (Израиль) в цикле лекций по литературе и искусству, подготовленных Ольгой и Авраамом Файнбергами, был прочитан доклад «Подвиг Осипа и Надежды Мандельштам» и представлена выставка, посвящённая творчеству поэта». Мой муж, долгое время работавший в молодые годы в музеях Казани, собственноручно подготовил умещающиеся в портфель стенды мини-выставок обо всех поэтах серебряного века, творчество которых мы пропагандировали в Израиле: А. Блоке, О.Мандельштаме, М.Цветаевой, А.Ахматовой, Б.Пастернаке, В.Маяковском, а также об А.С.Пушкине к его 200-летию.
В вышеупомянутом информационном письме, где упомянуты наш доклад и выставка, рассказано о вечере памяти Н.Я.Мандельштам, который вёл Ю.Фрейдин, о серии мемориальных радио и телепередач в рамках её столетнего юбилея с участием Беллы Ахмадуллиной, Бориса Мессерера, Эммы Герштейн и других; о телефильме «Конец пути» по каналу «Культура» (автор Андрей Битов); о выставке в Милане «Из истории ГУЛАГа.1920-1950 гг.», где экспонировались материалы из рукописного фонда и фонотеки московского кабинета мандельштамоведения. «Нет, весь я не умру…».
В 2005 году я осуществила свою мечту: издала в Ашдоде, где живу, книгу «Серебряные нити поэзии» с довольно редкими иллюстрациями из своего литературного и семейного архива. Конечно, среди адресатов, которым отправила книгу с симпатичным дизайном графика Нэли Васильницкой, было Мандельштамовское общество. Возглавляющий его ныне Павел Нерлер, навещая своих родственников в Израиле, позвонил по телефону и сердечно поблагодарил.
6.
Еврейство Мандельштама – тема особая, непростая. Трактуется, в том числе в Израиле, неоднозначно. Когда я в начале 90-х годов предложила прочитать в Еврейском культурном центре «Менора» в Казани лекцию о Мандельштаме, тогдашний руководитель-скрипач отказал на том основании, что поэт крещёный.
По мнению видных литературоведов (Г.Струве, С.Аверинцев), принятие протестантства Мандельштамом было не только расчётом (ради поступления в Петербургский университет), но и знаком вхождения в европейскую культуру.
Доверимся «Второй книге» Надежды Яковлевны: « Мандельштам – и по метрике Осип, а не Иосиф – никогда не забывал, что он еврей, но «память крови» была у него своеобразная. Она восходила к праотцам и к Испании, к Средиземноморью, а скитальческий путь отцов через Центральную Европу он начисто забыл. Иначе говоря, он ощущал свою связь с пастухами и царями Библии, с александрийскими и испанскими евреями, поэтами и философами, и даже подобрал себе среди них родственника: испанского поэта, которого инквизиция держала на цепи в подземелье. «У меня от него хоть кровинка», – сказал Мандельштам, прочтя в Воронеже биографию испанского еврея».
Осип Эмильевич (Хацкелевич) Мандельштам родился по новому стилю 2 января 1891 года в Варшаве, в семье перчаточника и сортировщика кож, купца первой гильдии. Мандельштамы происходили из благородного раввинского рода «ихес». Герцог Курляндский Бирон выписал их предка из Германии как ювелира и часовщика. Семья благодаря матери поэта, учительнице музыки Флоре Осиповне Вербловской, родственнице литератора С.Венгерова, была среднеинтеллигентская.
Листая автобиографическую прозу «Шум времени», убедимся, что своё отщепенство поэт не пытался преодолеть за счёт отказа от родословной. В описании собственной семьи он не позволяет себе ничего, кроме полуиронии.
Мудрая Надежда Яковлевна сделала во «Второй книге» тонкое наблюдение: «Судьба евреев замечательна тем, что они не только разделяют участь своего народа, но несут вдобавок все несчастья того народа, на чьей земле они раскинули палатки. Даже еврей, публично отказавшийся от своего еврейства, попадает наравне с другими в газовую печь, и он же отправляется на Колыму с чужим племенем, на языке которого он говорит. Мандельштам, еврей и русский поэт, платил и платит до сих пор по двойным, а то и тройным счетам. Он ведь ещё европейский и русский интеллигент из того слоя, где не чурались слова. За все эти преступления вместе и за каждое в отдельности у нас карали по всей строгости законов».
И всё-таки Осип сознавал свою ответственность за нарушение родословной:
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
О себе вдова поэта пишет во «Второй книге»: «Я часто думаю, есть ли во мне хоть ген, хоть кровинка, хоть клетка, соединяющая меня если не с праотцами, то хоть с гетто старинных испанских или немецких городов? Иначе откуда бы взялась стойкость, которая помогла мне выжить и сохранить стихи?».
Ещё в 1917 году поэт ощущал себя «среди священников левитом молодым» (так начинается стихотворение). Содержание многозначно: это и сравнение конца старого Петербурга с гибелью Иерусалима, и, как мне кажется, предчувствие Катастрофы европейского еврейства:
И семисвещником тяжёлым освещали
Ерусалима ночь и час небытия…
Шуточное стихотворение «Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант», пародирующее «Молитву» М.Ю.Лермонтова, долго ходило по рукам в списках, напечатано в 1956 году за рубежом и только в 1964 г. – в СССР.
В том же 1931 году создана «Канцона». В ней упоминается «начальник евреев». Интересно трактует это стихотворение, написанное после возвращения из Армении, Надежда Яковлевна. Уже через один Арарат Армения связана с Библией и праотцами. Она пишет: «В «Канцоне» Мандельштам назвал страну, куда рвался. Он ждал встречи с «начальником евреев». Следовательно, умозрительное путешествие совершается в Обетованную страну:
Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку.
Я скажу «селям» начальнику евреев
За его малиновую ласку.
«Мандельштам помнил о древности евреев и называл их племенем пастухов, патриархов, царей. Царям положено носить пурпур, и это одно из объяснений цветного эпитета».
Надежда вспоминает, что они с Осипом часто ходили в Эрмитаж и первым делом навещали рембрандтовского старца. Как-то Мандельштам сказал: «У него добрые руки». «Красный тёплый колорит «Блудного сына» прочно вошёл в сознание Мандельштама, гораздо более внимательного и зоркого, чем обычные рассеянные и равнодушные посетители. Доброта всепрощающего отца и сила раскаяния блудного сына воплотились в его памяти в красное сияние, которое исходит от отца, как благость. Тема блудного сына в «Канцоне», по мнению вдовы поэта, совершенно ясна, хотя и не названа.
Как бы продолжением «Канцоны» 1931 года служит стихотворение из «Второй Воронежской тетради» 1937 года:
Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушёл в немеющее время.
Блудному сыну не суждено было увидеть «до основания зелёную долину» прародины. Его жизнь оборвали палачи 27 декабря 1938 года.
Не мучнистою бабочкой белой
В землю я заёмный прах верну.
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну-
Позвоночное, обугленное тело,
Осознавшее свою длину.
Связь с редакцией:
Мейл: acaneli@mail.ru
Тел: 054-4402571,
972-54-4402571

Литературные события
Литературная мозаика
| Сертифицированные бриллианты |
|---|
| |
Литературная жизнь
Литературные анонсы
Внимание! Прием заявок на Седьмой международный конкурс русской поэзии имени Владимира Добина с 1 февраля по 1 сентября 2012 года.
Афиша Израиля. Продажа билетов на концерты и спектакли
http://teatron.net/Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие во Втором международном конкурсе малой прозы имени Авраама Файнберга. Подробности на сайте.
| Сертифицированные бриллианты |
|---|
| |
Официальный сайт израильского литературного журнала "Русское литературное эхо"
При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.