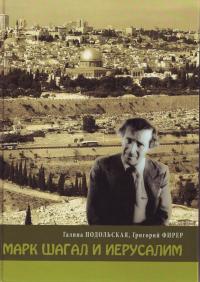| РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Литературные проекты | |
| Т.О. «LYRA» (ШТУТГАРТ) | |
 |
|
Литературные анонсы
Опросы
| 0% | нет не работает |
| 100% | работает, но плохо |
| 0% | хорошо работает |
| 0% | затрудняюсь ответит, не голосовал |
|
Спонсором литературных проектов является Алмазная биржа Израиля. Поиск цветных бриллиантов по базе биржи. |
От Михалина до Иерусалима
Роман-хроника
Вместо вступления
Исход евреев из бывшего Советского Союза в 1990-м году 20 века напоминает в чём-то бурную реку, которая долгие годы была закрыта бетонной многотонной плотиной. Но река эта, в отличие от других рек, не довольствовалась своим заточением, а всё время мечтала о свободе...
Репатриация евреев из бывшего Советского Союза в конце 90-х годов 20 века в чём-то сродни прорыву плотины – в данном контексте своду государственных законов, которые не разрешали древнему народу вернуться на свою историческую родину.
А может, никакой исторической родины и в мыслях не было? Может, всё дело совсем в другом и огромную массу людей подвигло на великое переселение нечто иное? Но что? Почему уравновешенные белорусские, русские и украинские евреи, горячие их соплеменники из Средней Азии, Казахстана, Кавказа – из всех регионов бывших советских республик, будто сговорившись, в одно мгновение оставили свои дома, близких друзей, любимую и, как правило, хорошо оплачиваемую работу? Оставив могилы своих предков, помчались в неведомый край песков и зноя, туда, где мирное сосуществование со своими соседями столь призрачно, что порой кажется вовсе не достижимым...
Что это было? Наваждение, коллективный психоз или исторический момент, который ещё предстоит оценить историкам, философам - как сегодняшних, так и будущих поколений.
Этому советскому исходу - назовём его так по названию бывшей советской империи, ещё предстоит такая же оценка, как и библейскому исходу евреев из Египта. Его мы вспоминаем от одного пасхального застолья до другого, передаем память о нем из века в век, из поколения в поколение.
Тогда евреи бежали из Египта от фараона.
Ну, а мы от кого? Да от такого же фараона, только имя его было – советская власть.
Как из маленьких речушек берет свое начало большая река, так из маленьких семей начиналась наша миллионная Алия...
Я хочу рассказать историю своей семьи, одну из многих, из которых и сложилась та самая Большая Алия 90-х годов.
Почему я назвал свою книгу «От Михалина до Иерусалима»?
Был и есть в Белоруссии такой небольшой посёлок, чем-то незримо отличный от своих соседних поселений, этакий местный прототип маленькой еврейской Одессы.
До войны здесь был крупный еврейский колхоз, который дал стране еврейских полковников, матросов и сержантов.
После войны молодая еврейская поросль ринулась в большие города. На этот раз маленький посёлок подарил стране еврейских генералов, ученых, инженеров, врачей, журналистов, учителей. Впоследствии, многие переехали в большие города, а оттуда – в Израиль, Германию, Америку и по всему миру.
И… опустел Михалин, утратил свою самобытность, перестал отличаться от своих соседей.
Но именно здесь для нашей семьи начался долгий путь восхождения в Иерусалим, словно протянулась незримая нить между Михалином и Иерусалимом. Мой долг рассказать об этом в память о тех, кто не дошел...
Глава первая. Еврейский солдат царской армии
Корни отцовской линии начинаются с деда Залмана – сироты, солдата царской армии...
Усатый фельдфебель ещё раз осмотрел своих солдат, усталых, изможденных. Да и как могло быть иначе - уже столько месяцев провели в окопах. Германец с высоты стреляет и стреляет, а им что остаётся делать? Только затаиться и ждать приказа.
И вот наконец он поступил – готовиться к ночной атаке на высоту, видимо, по всему фронту начинается наступление, неспроста прибыло пополнение боеприпасами и молодняком.
Но как надеяться на молодых солдат? Пушечное мясо. Бывший воронежский крестьянин фельдфебель Сашка Королев нутром понимал, что его главная боевая сила – старослужащие, которые знали и как в бой пойти, и как правильно укрыться во время артобстрелов.
Спустился в нижний ряд землянок. Солдаты возились с оружием – чистили, проверяли. С доброй улыбкой оглядел своих солдат бывалый фельдфебель. Сколько уже боёв вместе выдержали, сколько потерь пережили. Казалось бы, все равны, все в одной землянке, все под Б-гом ходят. Так, да не так – порой находились те, кто начинал подтрунивать над иноверцами «ты же нехристь!», или проведут салом во время сна по губам. Вроде шутят, но во время боя такому "шутнику" может не поздоровиться, ведь этот самый "нехристь" возьмет, да и отомстит обидчику, благо вокруг стрельба, никто и не заметит.
Фельдфебель всегда стоял на стороне православных, но старался не обижать и других. Если и покрикивал на них, то только для видимости, при этом глаза его светились лукавой улыбкой.
- Командыр, крычы – нэ крычы, мы знаем – мы твои дэти. Что нэ скажэшь – всё сдэлаем! - горячился в ответ Ахмед, низкорослый, узкоглазый татарин.
Рядом с ним – его самый лучший друг еврей Залман Златкин.
Вроде совсем разные, но как-то потянулись друг к другу, подружились, может быть, от того, что оба чувствовали себя одинокими. Кроме них не было здесь, среди солдат, ни татар, ни евреев. А как на войне выжить без надёжного друга?
Залман прижался к земляному брустверу, в руках – трёхлинейка, за плечами – маленький вещмешок. Вокруг бегают солдаты, офицеры раздают какие-то распоряжения, а у Залмана глаза сами собой слипаются. Спать хочется страшно, но нужно держаться, в любой момент может начаться атака.
- А если останусь здесь навсегда под Варшавой? – мелькнула шальная мысль.
- Святое дело, ребята, отдать жизнь за Царя-батюшку, - напутствует солдат полковой священник.
- Царь-то он царь, но батюшка ли? – борясь со сном, думает еврейский солдат русской армии.
В три года остался круглым сиротой, отца и мать во время погромов убили местные бандиты. Долго мыкался по дальним родственникам, но у этой еврейской бедноты в маленьких местечках хватало своих ртов. Уже тогда, в далёком детстве, Залман твердо усвоил – нужно быть незаметным, ничем не выделяться и ни о чем не просить. К столу подсаживался последним, одежку донашивал ту, которая уже никому не была нужна. Только подрос немного – пошел в батраки, работал у зажиточных хозяев за кусок хлеба.
А как исполнилось 18 лет – забрили в царскую армию.
- Да какой же ты батюшка, если я всю жизнь в холоде, в голоде, а теперь за тебя жизнь должен отдавать? – окончательно засыпая, продолжает сомневаться Залман.
И снится ему, что по его местечку, на золотой колеснице, едет Царь Всея Руси и ищет его, Залмана, чтобы попросить у него прощения. Мол, не знал, что ты сиротой остался, не держи зла, не подведи меня, не пощади живота своего ради твоего государя. Колесница всё ближе и ближе, Царь говорит всё громче и громче, а голос совсем как у фельдфебеля...
- В атаку! – взлетает команда.
Сна, как не бывало, Залман уже на ногах, перепрыгивает через бруствер и в атаку...
Рядом – тяжёлое дыхание солдат, крики, ругань. Впереди – цепи укреплений, колючая проволока, блиндажи. А на самой высоте – пушки, которые без перерыва извергают огненный смерч. Обратной дороги нет – пристрелят идущие сзади казаки.
- Ааааааа! – кричит Залман то ли от ярости, то ли от жалости к себе, и бежит, бежит вперед навстречу смерти, а может быть, от жизни, которая хуже смерти...
Колючая проволока разрезана, на ней повисли солдаты. У одного из них вывались наружу все внутренности.
- Братцы, пристрелите, не дайте мучиться – кричит несчастный. Кто-то из бегущих солдат стреляет в него в упор.
В образовавшуюся щель устремилась людская лавина в серых шинелях. Залман понимает, что сейчас он уже не может остановиться.
Спрыгнул в траншею. Впереди показался германец в остроухом шлеме возле пулемёта. Странно, его лицо как будто знакомо, будто Мойше из родного местечка. Но почему этот "Мойше" наставил на него пулемёт и не стреляет, почему?
Воспользовавшись замешательством немецкого солдата, Залман с размаху всаживает стальной штык в его грудь... А рядом – ещё один германец, второй, третий…
Каким-то боковым зрением Залман замечает, что здоровенный немец повалил на землю Ахмета и занес над ним штык. Он мгновенно вскинул винтовку, выстрелил, спас друга от неминуемой смерти и снова вперед, к очередной траншее...
Ночная атака завершилась победой, высота была взята.
- А ты молодец, Залман! Даже не знал, что так умело орудуешь штыком. – улыбается его друг Ахмет.
- А чем я мог орудовать, пером? Так я его в жизни в руках не держал. С детства орудовал лопатой, вилами. Какая разница между вилами и штыком? Почти никакой.
- Для тебя нет разницы, а для меня есть. Ещё секунда – не было бы больше меня. Теперь мы братья навеки, - татарин не скрывал слез, обнимая своего еврейского спасителя.
Погибших подобрали, похоронили в общей могиле. Раненых отправили в лазарет. Ну, а счастливчиков – домой, в отпуск, на переоформление в новые части. Впереди далеко светятся золотые купола Варшавы.
- Красота-то какая! Берёзовая роща, голубые облака и… непривычная тишина. Хлопцы, я даже не знал, что здесь такой рай! – улыбается один из них.
Слушая друзей, Залман только мечтает. Среднего роста, круглолицый, со смеющимися глазами, которые излучают доброту и радушие, он собирает свои пожитки. Как отличившегося в бою солдата, его отправляют домой, в отпуск.
Залман задумался - но куда домой, к кому? Как к кому? Есть родные братья, есть двоюродные, есть родное местечко на стыке России с Белоруссией.
Глава вторая. Эшелон идет на Восток
- Давай, служивый, давай к нам, мы потеснимся. Кому-кому, а тебе найдётся место в теплушке, - теснятся люди в поезде.
Из Москвы состав пошёл в восточном направлении. Здесь повезло тоже – попутчики славные оказались.
- С германского фронта? Ну, как там дела? Говорят, что скоро войне конец. Что скажешь, солдат? – интересуются у него мужики в вагоне.
- Что я вам скажу, нечего мне сказать. Домой бы скорее доехать, в своё местечко.
- Так ты еврей?
- Еврей. И отец еврей, и дед, все мы евреи.
- Расселся здесь – «евреи, евреи» – шипит губастый мужичок.
- Ша! – встаёт над ними фабричник. – Как Россию защищать – так все, и русские, и евреи. Ему нашлось место на фронте, а здесь он лишний? А ты где был? – вовсе разошёлся рабочий.
Залман удивился. Чтобы когда-либо русский защищал его от русского, мужик от мужика? Нет, что-то изменилось в России, пока он в окопах мёрз. Не та Россия, не та.
На вокзалах – тьма народу, в бушлатах, в шинелях. Все выступают, все что-то предлагают, спорят.
- А ты за кого, солдат? За большевиков или за Керенского?
Залман ничего не понимал в этих спорах, он никогда не любил политику. Может, потому, что был всегда далек от неё.
Он любил взять в руки косу и выйти на луг. Вокруг – кузнечики пощёлкивают, роса серебрится, а трава шёлковая, сочная, рядами укладывается и укладывается. Любил подойти к берегу реки и с размаху броситься в её бурное течение. Лежать на берегу и смотреть за облаками, а потом выбрать одно из них и следить, как оно плывёт, плывёт ... Любил лесные прогулки, всё то вечное, незыблемое, что от души, без фальши.
А здесь сплошная политика, непонятная пока.
Меньшевики – все сплошь барчуки, и даже брезгуют ему, солдату, руку подать. А если все-таки поздороваются, то потом незаметно ту руку и вытрут. Большевики? А что они обещают? Землю – крестьянам? Лозунг хороший. Но кто отдаст свою землю просто так, без крови, без насилия?
А Залман против кровопролития, хватит, навидался убитых боевых товарищей. А сколько сам пролил чужой крови за годы войны! Вот и тот убитый им немец все стоит перед глазами – может, такой же, как и он, еврей, посланный воевать за чужие интересы?
- Нет-нет, и большевики, и меньшевики – не для меня – думает Залман. – Моя политика – моё местечко. Куда оно, туда и я.
Глава третья. Из окопа под хупу
И вот оно родное еврейское местечко! Те же дома, скошенные, та же веселая орава детворы. Бегут впереди Залмана, мальчуганы утопая босыми ногами в придорожной пыли.
- Залман! Залман! Залман! – галдят они, окружив его со всех сторон. Узнали-таки! Старшие выходят навстречу, здороваются, улыбаются. Ещё бы – свой, местечковый еврей прошёл всю германскую войну, вернулся домой живым и здоровым.
День-два покрасовался в фуражечке набекрень Залман, и снова в работники. Но что-то изменилось в душе Залмана – то ли война, то ли тот большой мир за местечком, в котором он побывал и снова в него вернулся, не давали ему жить как прежде. Он понимал, что ничего не может сделать – и здесь ему трудно, и ехать некуда…
Когда огрубевшие от работы руки просили отдыха, он вечером шёл к друзьям. Наум Шифрин, один из них, Залман заходил к нему сначала просто так, а потом заметил, что тянет его в этот дом.
Спокойная, светловолосая Сара, её милая улыбка всё больше и больше стали его притягивать.
- Залман, иди сюда. Ты что это так зачастил к Шифриным?
- А тебе какое дело? – резко ответил на вопрос местного кузнеца и силача Льва Синичкина.
Двухметровый силач посмотрел на него сверху.
- Не посмотрю, что ты солдат!
- А я не из пугливых. Хожу и хожу, тебе отчёт не даю. Но если спросишь по-хорошему, отвечу – Сара мне мила!
Улыбнулся Лев, протянул здоровенную лапищу:
- А мне – Стэра. Две сестры-близняшки. Вот поженимся – и мы как братья будем, верно?
- Верно.
Кто-кто, а Залман всегда тянулся к родне, к хорошим людям, ведь за свои короткие 20 с небольшим лет уже всё успел испытать: и сиротство, и голод, и холод, и одиночество, и войну, и смерть. А теперь пришло время любви.
А время шло... Закончилась первая мировая, отгрохотала гражданская война. Люди как-то стали отвыкать от ее ужасов, от погромов - больших и малых, которые волнами прокатывались по местечку.
Белые входят - ищут коммунистов, а кто первым ринулся в новую власть? Конечно, евреи, понадеялись на лучшую долю. Теперь их семьи на себе испытали, как быть не только евреем, но еще и комиссаром!
Красные вваливаются – начинается поиск зажиточных селян. Бандиты самых разных мастей, но лютуют одинаково - грабят, насилуют, вырезают всех подряд...
И вдруг... затишье!
А девчата в местечке - словно яблоки наливные, томятся в ожидании любви, будто сама природа определила им быть житницами, продолжательницами рода...
- Лева! Я женюсь, - признается Залман другу Льву Синичкину, - мы с Сарой приглашаем тебя к нам на свадьбу.
- Что же, давно пора! Да и мы со Стэрой, тоже собираемся сыграть свадьбу.
- А давайте вместе в один день и отпразднуем, - загорелся Залман.
Давно не было в местечке такого веселья! Под хупой по очереди две сестры, обе из семейства Шифриных, одна из которых стала Златкиной, а вторая - Синичкиной.
Две сестры - две родовые линии.
Потянуло речной прохладой. Соловьиные трели раздавались до самого утра, словно слагали гимн любви счастливым новобрачным.
Что давало евреям возможность выжить, несмотря на войны и страдания? Песни сквозь слезы, танцы со стиснутыми зубами, да любовь. Только так и могли преодолеть и горечь потерь, и бесконечные скитания, и обреченность на вечные поиски пусть и маленького, но своего, еврейского счастья.
Глава четвертая. Еврейский колхоз в Крыму
Жили трудно, много работали, но уже пошли детишки... Поехали за призрачной птицей счастья в Крым, там создавался еврейский колхоз. И побежали годы...
- Ну что ты скажешь, Залман? – подошёл к нему новый знакомый, еврей из Гомельщины.
- Что я могу сказать? Мы, евреи, как цыгане, – всё время в дороге. Мой дед, мой прадед всё искали для себя лучшей доли. Потеряли мы свой дом в Иерусалиме тысячу лет тому назад, и пока его не найдём – и мы, и наши дети, и внуки будем в дороге, - ответил Залман.
При этих словах Сара встрепенулась, взглянула на мужа тревожно.
- Ты ли это, Залман? Никогда я от тебя не слышала ничего подобного.
- Да я и сам об этом подумал впервые. Посуди сама – родился, батрачил на хозяев – русских, евреев, белорусов. Женился – снова батрачу, только теперь уже вместе со мной на хозяев работает мой первенец – Давид. Ещё читать не научился, в школу не пошел, а уже ходит за коровами подпаском. Бегает и кричит: «Чёрная-чёрная-чёрная, белая-белая-белая, рыжая-рыжая-рыжая!», чтобы не растерять коров. Мы, евреи, приехали сюда в Крым из всех мест, создали свой еврейский колхоз" Икар". Казалось бы, мечта достигнута, но что-то не то. Не то, я это чувствую.
- Тише, тише, Залман! – замахала руками Сара. – Теперь я понимаю, откуда эти разговоры. Вот куда ты вечерами шастаешь – к этим палестинским евреям.
- Да, к ним. Какие они молодцы! Поверили в наше братство, примчались из далёкой Палестины, чтобы помочь нам построить социализм. Но чем больше здесь, тем больше вспоминают свою Палестину, она ведь для всех евреев родная земля, там ведь Иерусалим, который нельзя забыть.
- Всё, Залман, всё! – закрыла занавеску Сара. – Б-гу было угодно, чтобы мы были здесь – мы здесь. Барух а-Шем, есть свой дом, дети растут – что ещё надо? Скажи мазал тов и не пеняй на Б-га, не пеняй на людей.
Через двадцать лет Сару с детьми расстреляют и сбросят в котлован, а Стэра, каким- то чудом вытащив детей из горящего Мстиславля, потеряет рассудок, еще лет 20 лет после войны будет неподвижно сидеть, закрыв руками голову, словно оставшись там, на войне, со своей сестрой- близняшкой Сарой...
Рассвет вставал над еврейским колхозом, над всей крымской землёй. Обновлённая, возрождённая еврейскими переселенцами, эта земля, которая до этого совсем не использовалась, зазеленела, заплодоносила, своими арбузами, дынями.
Сара просто молодец, молодая, быстрая, справляется в колхозном коровнике, всё успевает – и по дому, и за детьми.
Залман – на лошадях, к ним он привязан с детства. Поправляет коню упряжь, надевает хомут, так чтобы он его не сдавливал. Похлопал по холке – вперед, нужно распахать новый участок.
- Нн-но, родимый, пошёл! – за плугом отваливается пласт за пластом чёрная земля.
Залман легко ступает по борозде, представляя, как он распахивает землю не в крымской степи, а в далекой, неведомой Палестине.
С чего бы он стал думать про неё? Видать, вчерашний палестинский еврей, родом из Германии, таки поселил в его душе тревогу. Он тоже, как Залман, прошёл первую империалистическую войну, только на стороне германцев.
- Я даже не мог подумать, что на стороне немцев в войну были евреи.
- А я не мог подумать, что среди русских солдат тоже воевали евреи, - ответил Залману Рувен.
- Теперь я понимаю, почему тот немецкий солдат, прежде чем в меня выстрелить из пулемёта, что-то прокричал мне на идиш. Он узнал во мне еврея. Он был так похож на Моше из местечка, он был так похож… - сжимает в отчаянии голову Залман.
- Считай, что убил тогда родного человека, своего еврея.
- О, Б-же, а что я мог сделать?!
Да, сколько же евреев полегло – русских от германских, а германских от русских. Сколько еще можно сражаться по разные стороны?
- Я верю, что придёт то время, когда мы, все евреи, будем в одной армии. Эта армия будет на земле Палестины, - горячо уверяет Рувен.
Назавтра Залман снова направился в лагерь палестинских евреев. Глазами поискал знакомого – нет и нет. Осторожно спросил про худощавого еврея с чёрной бородой.
- Нет, не знаем, - ответил ему один.
А второй глазами дал ему знать, что тот уже далеко, что лучше его не искать, а что успел узнать – держи при себе.
Жара находила везде. Отсутствие питьевой воды (её привозили только в бочках) усложняла жизнь еврейских переселенцев. Но всё равно настроение было радостное, ведь жили надеждой на новую, более лучшую жизнь.
- Сядь, Залман, сядь, успокойся. Всё в руках Б-га, - видя встревоженное лицо мужа, опять всполошилась Сара.
Подойдя, тихо сказала:
- Всё грезишь о Палестине? А я слышала, что начались аресты палестинских евреев, что все они – враги народа.
- Да враки это всё! Может, они и враги, но только себе, если приехали в Россию. А теперь я тебе скажу, Сара, своё решение – мы возвращаемся в Белоруссию. Не хочу больше здесь оставаться.
Сара опустилась на табуретку. Окно заполняло жарой, крымской жарой. Всё, что раньше было таким родным – и бахчи, и поля, и коровники, и дома, и соседи – стало вдруг чужим, ненужным.
Сара знала Залмана – на вид мягкий человек, он был решительный в своих действиях. Если уж что-то говорил – то только один раз.
Она вздохнула, развязала белую косынку, и сразу локоны рассыпались по плечам золотым дождем.
Залман будто впервые увидел ее.
- Да, моя Сареле, красавица! – он смотрел на исхудавшую от работы жену, на её поникшие плечи, на её редкую седину, а видел ту, прежнюю Сару.
- Ты же носишь имя праматери Сары, всё же идёт оттуда, из Палестины, из страны евреев. Вот кто моя Сареле! – опустился перед ней на колени, взял в свою руку её мозолистую ладонь – вся ладонь в мозолях! Сколько вёдер воды ты перетаскиваешь, чтобы напоить всех коров, сколько? – посмотрел в её глаза.
- Залман, о чём это ты? Ты разве не знаешь, что как только встаю, так бегу в коровник. Из коровника – домой, из дома – опять в коровник. Вот пришла отдохнуть, а ты даже это не даёшь.
Вздохнул Залман.
- Сареле, Сареле! Трудно нам. Вот, письмо получил из Белоруссии. Пишут, что недалеко от моего родного села, там, где родился наш Давид, создаётся еврейский колхоз. Понимаешь – еврейский!
- А здесь какой?
- Здесь? Здесь – что-то не то, что-то мне тревожно. А там – мы свои, там мы родились, может, больше поможет нам родная земля. Там все мои – зовут, ждут.
- Снова в дорогу?
- В дорогу, Сареле, в дорогу! Евреев много, а колхоз в Михалине будет только один. Надо спешить!
В 1937 году семья Златкиных навсегда распрощалась с крымской землей. Впереди была Белоруссия и новая жизнь, новые надежды и мечты – если бы они тогда могли знать, что их ждет в родных краях, какая горькая судьба им уготована! Но пока – все живы, колеса стучат, а в сердцах надежда, которая никогда не покидает ни одного еврея.
Глава пятая. Недоброе село Доброе
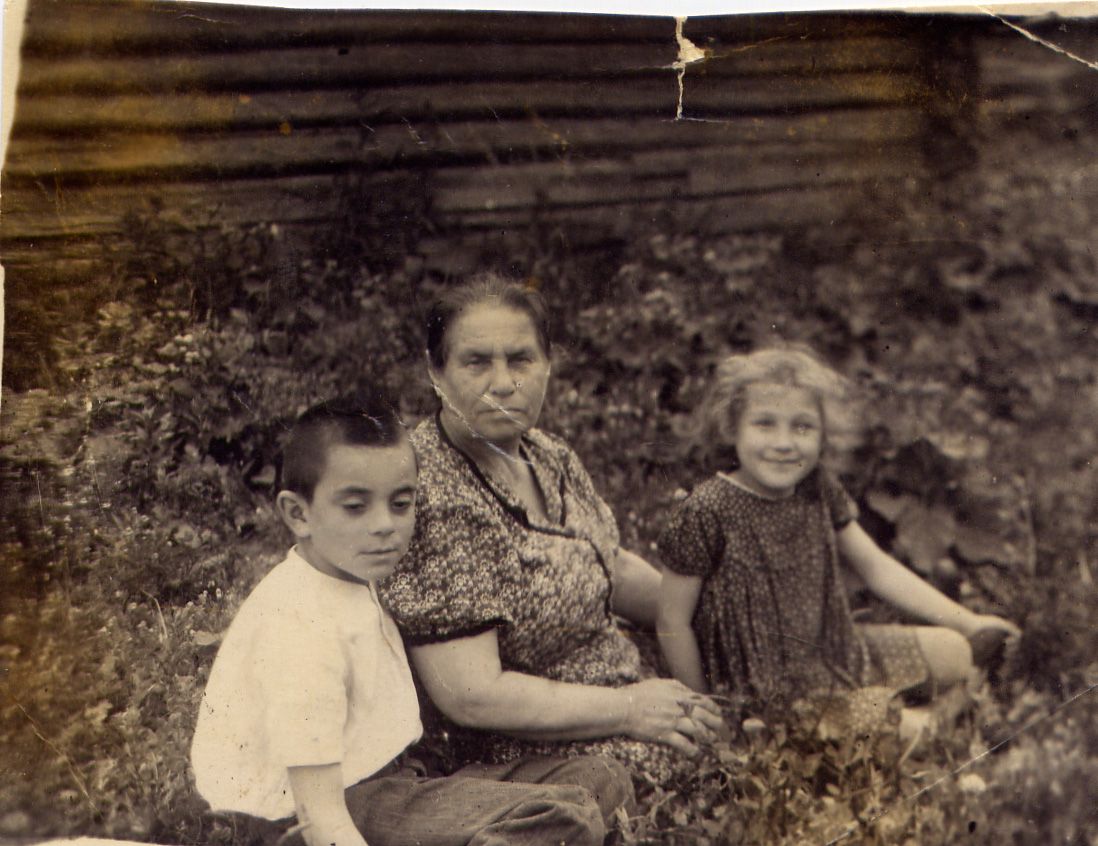 Жизнь материнской ветви развивалась по тому же сценарию: работа, тяготы, погромы...
Жизнь материнской ветви развивалась по тому же сценарию: работа, тяготы, погромы...
Тишина. Только скрипят от мороза деревья. Снежные шапки укрыли поля, дороги, дома. Лишь мельница, которая стоит на пригорке, выделяется на фоне спрятанного под снегом села Доброе.
Только начало светать, а старый мельник Гедалий уже на ногах, поторапливает своих помощников - сыновей Давида, Аброма и Арона. Семья немалая – только у старшего, Давида, пятеро детей, и всех кормит эта сельская мельница. Правда, женщины все сами делают по хозяйству. Соня – пышнотелая светловолосая красавица, даром, что бывшая горожанка, все у нее ладится. Увез ее из соседнего Черикова в село Доброе Давид, и вскоре она уже не уступала в работе местным. Халу испечет – нет вкусней, белье постирает – белизной сияют простыни и наволочки. Если готовит, то пальчики оближешь! Если сядет за швейную машинку, то строчит и шьет, как заправская швея.
Ну, а если сверкнет своими лучистыми глазами, поведет плечами и, набросив шаль, выйдет на круг, то никто не может сравниться с ней в танце – ни свои, еврейки, ни белоруски.
Вот какой была моя бабушка, мама моей матери.
Я ее хорошо помню. По-русски говорила с мягким идишским акцентом, а глаза всегда лучились каким-то особым лукавством. Статная, красивая, она и в возрасте под 70 т ловила восхищенные взгляды старых ловеласов. В ее маленькой комнате все сияло чистотой, а подушки были огромные, с белоснежными накрахмаленными наволочками.
- Софья Евсеевна, Софья Евсеевна, ваш внук какой-то взлохмаченный, – стучит в дверь соседка.
- Ну, что стряслось? – гладит она меня по голове.
Рука теплая, мягкая, родная. Глаза излучают любовь. И ничего, что я внук приезжий, из соседнего города – любит она меня не меньше, чем внуков местных, живущих рядом.
- Сегодня я первый день сел на велосипед и сразу же поехал, решил промчаться на высокой скорости по шоссе, но под колесо бросился котенок. Вот я и свернул в сторону, – рассказываю ей причину своего падения. Сейчас меня больше волнует, как вернуть искореженный после падения велосипед, чем ободранные локти и коленки.
- Давай-ка лучше обработаем твои раны, - говорит бабушка, смазывая их чем-то, и лишь от одного ее прикосновения боль утихает.
Бабушка Соня, бабушка Соня… Рано похоронила мужа, потеряла на фронте сына Хаима-Ефима. После войны, до 1966 года, только и жила на маленькую пенсию, которую получала за него.
- Закрою глаза и вижу свою бабушку. Она не идет, а будто плывет по брусчатке древнего Мстиславля. Вижу, как уважительно с ней здороваются встречные. А бабушка только улыбается и мне, и им… Но это еще будет через многие десятилетия.
Вечером, как обычно, Соня, покормив семью и справившись по хозяйству, наконец-то прилегла. Рядом – пять черненьких головок Абраши, Цили, Хаима, Малки и Рейзеле. За окном крепчает мороз, завывает ветер. Где-то рядом залаяла собака и тут же, жалобно взвизгнув, замолчала.
- Не случилось ли чего? – в тревоге присела на кровати Соня.
Рядом вскочил Давид, прислушался, и в эту же минуту постучали в дверь, потом – в окно, потом – опять в дверь.
- Давид, Соня, откройте, откройте! Отца убили! – влетел в дом запорошенный снегом, с окровавленным лицом, младший брат Арон.
Взрослые и дети с криком выбежали на улицу. Прямо через дорогу – дом деда и бабушки. Дом мельника был самым заметным в селе – большой, светлый, он всегда вызывал зависть у сельчан. В те тревожные двадцатые годы уже только то, что ты еврей, да еще зажиточный, могло послужить поводом для безнаказанного разбоя. Тяжело ли кого подговорить, особенно когда люди доведены до крайности. Старая власть сменилась новой, которая пришла в эту глухомань, но будто ее не было – поощряла разбой, разгром зажиточных хозяев, к которым как раз и относился мельник. Поэтому бандиты, которые орудовали здесь, чувствовали себя безнаказанными.
Утопая по колено в сугробах, дети мигом перебежали дорогу. Дверь широко раскрыта, оконная рама выбита, на полу – осколки стекла, а прямо в центре – окровавленный дед.
-Это была страшная ночь, - вспоминает моя мать, и глаза ее наполняются ужасом, будто она вновь переносится в те далекие дни.
В его дом вначале пытались ворваться ночью, сотрясая дверь мощными ударами.
- Приехали молоть зерно. Открывай мельницу! – голоса за дверью были чужими, грубыми и властными.
К старому мельнику частенько приезжали из соседних сел. Он никому и никогда не отказывал, иной раз даже далеко за полночь вскакивал со своей лежанки, спешил на помощь сельчанам. Но на этот раз, будто почувствовав что-то неладное, не спешил открывать задвижку. И в эту же минуту, кто-то стал ломать дверь. Грохот ударов не прекращался. Старый Гедалий вместе с женой подтянул к дверям стол и маленький шкаф, чтобы хоть как-то заблокировать дверь. Вдруг перед окнами мелькнула чья-то черная тень. С треском упала на пол выбитая оконная рама. Через оконный проем в дом ворвался верзила в самодельном полушубке и с налета выстрелил в мельника. Его жена Хена за минуту до того успела спрятаться. Младшего сына сильно ударили по голове, мертвым узлом привязали к стулу.
- Сидеть, не двигаться, иначе останешься здесь на всю жизнь! – приказали ему люди в масках и скрылись во тьме.
Почувствовав, что бандиты ушли, бабушка с трудом развязала узлы на веревке, освободила сына, который позвал на помощь Давида и его семью.
За окном продолжал завывать ветер, круша все на своем пути. Метель дико кружила и кружила, заметая дорогу, навевая сугробы за сугробами. Природа будто хотела задержать бандитов, наказать их за убийство старого еврея Гедалия Хенкина.
- Не могу даже сейчас об этом вспоминать спокойно. Сколько лет прошло – вся жизнь. Но и сейчас все вижу, будто наяву, – говорит мать.
Убийц, конечно, не нашли. Думаю, что их никто по-настоящему и не искал.
Сколько ей было тогда лет? Около десяти, а другим, младшим – еще поменьше. Получить такую психологическую травму в детстве, это на всю жизнь… Увидеть убитым родного человека. Как с этим можно было жить дальше?
Но сколько еще психологических травм, сколько трудностей, грусти ждали мою мать на пути!
На второй день вся семья покинула родной дом, унося в сердце на всю жизнь недобрую память о селе Доброе.
Глава шестая. Если увижу тебя, Иерусалим...
Годы, как птицы, пролетают мимо...
Дорога, петляя, привела Залмана в Михалин, который на первый взгляд кажется обычным селом. Но нет - и не село, и не обычное. Во-первых, под боком у города, а это уже многое значит. Здешние евреи – не какие-нибудь селяне из глухих деревень.
Какой-никакой, а все-таки город, да еще железная дорога. День-два – и вот уже Могилёв, Минск, Москва. Правда, это всё больше в теории для молодых, горячих голов. А скажите, куда прикажете ехать Залману? Ну, вот и все, приехали!
Пересекли всю Россию и Белоруссию, хоть из теплушек, но всё же увидели, как велика страна, и не везде есть дворцы – а больше избушки. Всюду люди копошатся - на лугах, в полях, на дорогах.
Тоже и в Михалине. Всем новым колхозникам выдали лес на постройку домов. Построил дом в центре Михалина и Залман, а затем и его родной брат Айзик, который тоже привёз сюда свою семью. Крестьянское дело – дело привычное их мозолистым рукам.
За Михалином колхозники возвели новое здание фермы, закупили коров, вот и Сара опять при деле. Ну, а Залман снова на общих работах. За что ни возьмётся, всё может: и пахать, и сеять, и косить.
- Учись, учись у Залмана! – говорят молодые. – У нас таких, как Залман, больше нет. Кто прошёл германскую? Залман. Кто у нас осваивал Крым? Залман. Кто привёз молодых помощников? Залман. У кого жена самая лучшая доярка? Тоже у Залмана – шутят колхозники.
Еврейские семьи многодетные. Казалось, только вчера малышня малышней, а вот уже и Давид подрос, и старшая сестра Злата расцвела, Муня взрослеет не по годам. Всего несколько лет прошло, и вот уже бежит, размахивая ручонками, Ханэле – самая младшая, любимица всей семьи.
- Это уже коренная михалинка, - улыбается Залман. – Здесь родилась, в еврейском колхозе «Энергия».
В редкие минуты он любит помечтать, всегда хочется о лучшем, но только где оно? Далеко-далеко... И понимает Залман, что это неведомое, лучшее постепенно уходит, растворяется… Дети, что их ждёт?
Газеты кричат о мире с германцами, но с ними Залман уже встречался в боях, в жестоких боях. Газом травили, взрывали всё вокруг, и всё под песенки, под музыку…
- Нет-нет, мир с немцами – как мир волка с овцами. Пока волки сыты – овцы целы. А как проголодаются – проглотят, проглотят, – говорит Залман своему брату Айзику.
Часто собираются они семьями, вот и на этот пасхальный вечер пришёл Айзик со всеми своими домочадцами. Сара расстелила белую скатерть, на столе – маца. Как всегда, проводит седер Залман.
На голове мужчин – белые кипы, на столе – молитвенники "сидуры". Залман нараспев читает про евреев, про их исход из Египта, и будто видит себя в этом рабстве, словно читает про свою жизнь.
А он кто? Раб, всю жизнь раб. Чем жили рабы? Да тем же, что и он – все детство объедками с чужого стола. Что делали рабы? Работали до изнеможения, как и он, Залман, за кусок хлеба. Воевал, потом снова работал, работал, работал - и так всю жизнь. А где она, другая жизнь?
«Бэ шана а-баа бэ Иерушалайм» – поют дети. На следующий год – в Иерусалиме – мечтают все.
Видит себя Залман, будто он и в самом деле в том самом золотом Иерусалиме. Вот он в окружении своих детей и всех своих родных, и все в белых одеяниях.
Идут к "К отель а-маарави" – Стене Плача, к древней еврейской реликвии, а вокруг – горы, далёкие горы, внизу- Мёртвое море, на севере – Хермон со снежными вершинами, а посредине – зелёная Галилея. Его Сареле протягивает ему спелую ветвь винограда. Молится и мечтает Залман.
«Бэ шана а-ба бэ Иерушалайм, Бэ шана а-ба бэ Иерушалайм», - молятся и мечтают все Златкины.
Даже непоседа Ханэле притаилась, притихла в ожидании пасхального подарка. Вдруг, внезапно, как видение, Залман увидел дорогу. Дорогу от Михалина до Иерусалима.
Долгую дорогу, плохо освещённую, с какими-то ямами, какими-то памятниками посредине. Но в конце её горел яркий свет. Это было мимолётно, мгновенно, вспыхнуло и погасло... Что это было? Прозрение, провидение?
- От Михалина до Иерусалима, от Михалина до Иерусалима, - внезапно для себя вспомнил Залман свои задушевные беседы с палестинским евреем Рувеном. Посмотрел на Айзика – что он скажет на его выходку?
Взглянул на Сареле.
- От Михалина до Иерусалима! – подхватил воодушевленный пасхальным вином Айзик.
- От Михалина до Иерусалима! – то ли молились, то ли мечтали все Златкины.
Если бы они могли тогда знать, что только один из них, Давид, сын Залмана и Сары, увидит Иерусалим. Увидят Иерусалим его, Давида, дети, и дети его детей.
А другим, всем тем, кто в тот пасхальный вечер находился за праздничным столом, не суждено будет увидеть Иерусалим. Страшная судьба ждала их, и никто не спасся... Жить им оставалось считанные годы.
Но сегодня они все вместе за пасхальным столом, и счастливы...
Глава седьмая. Жребий брошен...
 Жизнь идет своим чередом...
Жизнь идет своим чередом...
- Что пишет Арон? – поинтересовался Залман у старшего брата Айзика, который ему, сироте, заменял и отца, и мать.
Арон Златкин первым из семьи был призван в армию. Служил в центре страны. Перед призывом в армию прислал свою последнюю фотографию в гражданской одежде...
- Пишет, что служит, что Красная Армия сильнее всех.
- Дай Бог, - Залман погладил бороду. – А что у Златы?
Самая старшая из дочерей уехала на Украину, к брату Ефиму.
- Научилась шить на швейной машинке, нашла работу по новой специальности, а теперь зовёт одну из сестёр. Как думаешь, Залман, кого отправим? – спрашивает Айзик
 Он старший по возрасту всегда советовался с младшим, как ни говори, а Залман повидал жизнь!
Он старший по возрасту всегда советовался с младшим, как ни говори, а Залман повидал жизнь!
- Вам решать, кого. Но само решение, может быть, и правильное. В городе всегда есть работа. Потом, попозже, и вы сможете переехать. Дети пойдут учиться. Там же есть техникумы, институты. Что им, как нам, крутить хвосты коровам?
Две сестры, Гися и Бася, сёстры-близнецы, всегда вместе, всегда рядом. Две помощницы, остальные дети – мал мала меньше. Кому ехать, кому остаться? И Злата будет рада сестре, и отцу нельзя оставаться с малышнёй без помощи.
- Бросим жребий! – смеются сёстры. – Длинная соломинка – уезжает та, кто вытаскивает, а кому достаётся короткая соломинка – та остаётся.
Смеются сёстры, сверкают белоснежными зубами.
- Гися, тебе первой вытаскивать жребий! – решает сестра.
Гися вытаскивает, в её руках… длинная соломинка.
- А теперь – твоя очередь! – Бася вытаскивает короткую соломинку.
- Едет Гися, Гися! – захлопали дети в ладоши.
Если бы они только знали, что одна из них вытаскивает не просто соломинку, а свой пропуск длиною в долгую жизнь, в жизнь будущих детей и внуков. А вторая... Ей выпадет горький жребий - меньше через четыре года она найдет свой страшный конец в братской могиле вместе с другими, расстрелянными фашистами, сельчанами.
Если бы знать, если бы знать... Но кому дано предугадать будущее?
И сейчас, через годы, я мысленно представляю себя в тот вечер, в Михалине, который стал теперь родным и для меня. Будто вижу себя среди всех Златкиных. Ведь я тоже Златкин, сын уцелевшего сына.
Что бы я сказал?
- Бегите все, все отсюда! Уезжайте немедленно, немедленно, вместе с Гисей, иначе погибнете… погибнете… погибнете… погибнете…
Над Михалином сгущались тучи – тучи войны.
Казалось бы, просто небольшой поселок, но благодаря еврейскому колхозу, он был как островок стабильной жизни во всей округе. В соседних деревнях – бедные колхозы, больше воруют, чем нарабатывают. На трудодень – одни палочки. Мужики пьют от безысходности, многие просятся в еврейский колхоз, где и на ферме порядок, и в саду, и на полях, да и в домах самих колхозников какой-никакой, а все-таки достаток.
Но не так просто попасть в этот колхоз. Евреев, любящих землю, правление колхоза ещё может согласиться принять. Но не евреев, пришлых, председатель колхоза не очень жалует. «Беспорядка принесут больше, чем пользы», - уверен он.
А горожане, торговцы мелкие из Климовичей, с завистью смотрят на михалинцев. Ещё бы! Ведь считали в округе, что евреи не могут управлять лошадью, не могут работать на земле. А они взяли и доказали, что еще как могут, другим бы поучиться! Вот, хотя бы взять Эли Кугеля – мужичок с ноготок, а каков в работе! Он был одним из немногих михалинцев, пришедших домой с войны. Вернулся – а семьи нет. И жена, и дети – все расстреляны. От одиночества, от безысходности спасла его белорусская красавица Вера. Я хорошо помню их обоих.
Она – быстрая, работящая, родила трех дочерей, таких же ладных, как и мать. Участок картошки Эли Кугеля находился недалеко от нашего дома. Каждый год он на наших глазах весной сажал картошку, осенью убирал - и так из года в год, из года в год.
Но шли годы, стал Эли слабеть.
- Эли, ё… твою мать, куда ты едешь, куда ты ведёшь коня?! – взлетал над полем резкий женский голос.
Останавливался Эли, слезились глаза – то ли от старости, то ли от усталости. Смотрел на эту женщину, не понимая, откуда она, чужая, взялась в его жизни. А куда ушла его первая жена, его еврейская семья?
Верка – не хуже других, но такая у неё бабья тоска, что муж-еврей и не такой сильный, и не такой жилистый, как мужья её подруг.
- Ээээх! – всё вздыхал Эли, когда приходил к нам.
О чём вздыхал Эли, о чём вздыхал мой дед Залман? Они оба – самые старшие, самые старые, всё, что осталось от еврейского довоенного колхоза.
- Дед, что ты всё о войне, да о войне? – хочется сказать ему. – Давай подумаем, как отремонтировать крышу. Сколько тебя помню, ты всё время здесь, с нами. Может, ты всё это выдумал?
- Выдумал, ничего не было – не было ни войны, ни моих детей, ни Давида. Так откуда ты взялся? – злится мой дед. А может, это мне только кажется. Сидит на скамейке под вишнями. Розово-чёрные, они склоняются к его белой рубашке с длинными рукавами.
Лето, жарко, но дед – в ватных тёплых штанах. Тяжело ступая, переваливаясь с ноги на ногу, он с трудом опускается на скамью, чтобы ненадолго отдохнуть.
Нам он кажется древним-древним, с какой-то другой планеты. А ведь тогда он был не старше меня сегодняшнего.
Стрекозы гудят. Обжигаясь крапивой, подбегаю к нему.
- Галик, Галик, всех моих детей побили на войне, один только Давид остался, - плачут его глаза.
И видя мою мать, вынимает из кармана деньги, чтобы она купила на них хлеб.
- Я запишу и всё отдам, - шепчет она тихо.
- Да ладно! – машет он рукой. – Зачеркни старый долг и начни новый.
А потом зачёркивается и новый долг - и так без конца.
Свою мизерную колхозную пенсию он, как мог, делил с нами. Чем он ещё мог помочь своему сыну, своим внукам? Отдал свой старый дом, отдал сад, помогал деньгами. Провожая меня в армию, сунул мне в карман три рубля – это были тогда большие деньги.
9 апреля 1969 года я получил телеграмму с извещением о его смерти.
- Это не прямой родственник, домой на похороны не отпустим, - сказал мне майор в штабе части, и посмотрел куда-то в сторону пустыми, бесцветными глазами.
Однако, вернемся к событиям того трудного военного времени….
Война. Где-то далеко, далеко, возле Бреста. Так далеко, что до восточного города Климовичи, кажется, ей и не добраться.
- Одна просьба к тебе, брат! Не оставляй мою семью, не оставляй, - просит Айзика Залман.
Был Залман Златкин пехотинцем на первой мировой, стал солдатом-сапером на второй. Мог ли он тогда, в окопах под Варшавой в далеком 1914 году подумать, что пройдут годы и он снова схлестнется в смертельном бою с германцами?
Глава восьмая. Еврейская повозка судьбы...
Куда только ни заносила судьба евреев, везде они старались выжить, дать счастье детям, спасти детей...
Мстиславль, один из древнейших городов Белоруссии, расположен на берегу красивейшей реки Вихра. Евреи, которым запрещали жить в больших городах Российской Империи, вынуждены были селиться в таких маленьких городках, в так называемой черте оседлости. Как жили?
Бедно, но весело. И свадьбы гуляли всей общиной, и брит мила, и бар мицвы справляли, как положено. Ну, а если случались похороны, то хоронили на своем, отдельном еврейском кладбище.
И так – из поколения в поколение.
Большинство населения этого городка до войны было еврейским. В Мстиславле была еврейская школа, в город приезжали известные в стране еврейские писатели и поэты. Но как-то незаметно еврейская жизнь здесь стала затухать. Писателей и поэтов посадили, кого-то даже расстреляли, а школу закрыли…
Проучившись один год в еврейской школе, моя будущая мама перешла в белорусскую школу. Вопроса, куда пойти учиться дальше, не было – с самого детства моя мать мечтала стать учительницей. Да, и ехать никуда не пришлось, благо педагогическое училище было в родном городе.
И вот выпускной вечер, направление на работу – вся жизнь впереди!
 Вечером три сестры Хенкины, как-то сразу повзрослевшие, красивые, нарядные, вместе с другими еврейскими девушками пошли в городской парк. Там все, как прежде, так же ярко и нарядно, вокруг много молодых людей, да только народ какой-то невеселый, все почему-то разговаривают шепотом. Да и разговоры-то все об одном и том же: опять за кем-то ночью приехал зловещий "черный воронок", кого-то забрали, кого-то уже посадили. Страх витает в воздухе старого мстиславского парка...
Вечером три сестры Хенкины, как-то сразу повзрослевшие, красивые, нарядные, вместе с другими еврейскими девушками пошли в городской парк. Там все, как прежде, так же ярко и нарядно, вокруг много молодых людей, да только народ какой-то невеселый, все почему-то разговаривают шепотом. Да и разговоры-то все об одном и том же: опять за кем-то ночью приехал зловещий "черный воронок", кого-то забрали, кого-то уже посадили. Страх витает в воздухе старого мстиславского парка...
- За что людей забирать? Откуда среди нашей бедноты могут появиться враги народа? – недоверчиво пожимает плечами одна из сестер.
- А за что убили деда? Ты знаешь причину? Вот так, не за что, и посадить могут.
- Еврей – это уже причина, - подводит итог бойкая на язык Рейзеле.
А июньский вечер между тем так хорош, что не хочется вести серьезные разговоры, да еще в то время когда рядом танцплощадка, где уже кружатся в танце подруги, не зная, что завтра война!
Но наступило утро, хмурое утро 21 июня 1941 года.
Опустел город. Всех мужчин призывного возраста забрали в армию.
- Враг будет разбит. Население не должно поддаваться на провокации. Все – на строительство оборонительных рубежей! – пестрят заголовки газет, раздается из всех радиоприемников. Но тревога уже заполнила улицы городка...
Прошло еще несколько мучительных дней...
Евреи стали покидать город. Из местного начальства уже никого нельзя было увидеть, те уехали первыми.
- Германцы ничего плохого евреям не делали в первую мировую войну. Никуда от своего дома не поеду! – заупрямился вдруг отец, и уже упакованные вещи стали распаковывать.
Пытаюсь представить, что тогда происходило. Везде неразбериха, страх, паника. Ехать – но куда? Оставаться – но что ждет впереди?
Инициативу взял старший сын Абраша. Если бы не он, у этой семейной повести был бы совсем другой конец.
Подогнав коня с телегой, не дав времени на размышление, Абраша с криком ввалился в дом:
- Срочно грузитесь! Выносите самые необходимые вещи!
Легко сказать - все как будто и нужно. Увидев, что повозка переполнена, он стал сбрасывать узлы, все подряд, не выбирая.
- Кого спасаете – посуду или себя?
Отъехав километров пять-семь от города, сделали привал.
- Посмотрим, может, наши еще отгонят германцев, потом вернемся, - заметил Давид Хенкин, все еще не желая уезжать на чужбину, будто предчувствуя, что в родной дом он уже не вернется.
Так и случится. В 1943 году его похоронят возле мельницы, на высоком холме в Оренбургской области.
... Ночь прошла в ожидании. Наутро мужчины решили проверить, что творится в городе, взять из дома что-то из съестных запасов. Только выехали, как услышали позади себя глухие разрывы – город начали бомбить, со всех сторон поднимались зарева пожаров.
Все вокруг горело, все разрушалось под натиском грозной темной силы, которая, словно хищник, разрывала древний город на части. Германские войска были уже на самых подступах к Мстиславлю.
Это было какое-то невиданное чудо, что семья моей матери за день до прихода немцев, успела вырваться из горящего города.
Если бы не настойчивость и твердость, всегда мягкого и нерешительного, моего будущего дяди Абраши, всех бы моих родных и маму ждала бы страшная участь.
Всех оставшихся в городе евреев – а их было несколько тысяч человек – зверски замучили и убили, а тела сбросили в овраг.
Расстрельная команда в основном состояла из местных, из белорусов. До войны, многие из них приходили в гости к евреям, сидели за одним столом, были друзьями.
.jpg) Мстиславская трагедия широко освещена в интернетовских материалах. Все желающие могут прочесть, как уничтожали евреев в этом маленьком белорусском городе.
Мстиславская трагедия широко освещена в интернетовских материалах. Все желающие могут прочесть, как уничтожали евреев в этом маленьком белорусском городе.
Моя мама, ее семья, обреченные на верную смерть, оставили позади себя кромешный ад. Свершилось чудо, им удалось спастись, но впереди их ожидали новые тяжелые испытания...
Я мысленно представляю себе горящее, тревожное лето 1941 года, ведь сколько раз мне об этом рассказывала мама. На миг закрываю глаза, и кажется, будто я тоже там, с ними, моими несчастными родными…
Васильки, голубые васильки, расстелились вдоль дороги. Пройтись бы по ним не спеша, подышать свежим воздухом, а потом улечься на спину и любоваться белыми облаками. Может, тогда покажется, что там за рекой, за лесом, где остался горящий Мстиславль, все неправда, что все это какое-то наваждение или сон, страшный сон...
Но мчатся по дороге взмыленные кони, беспорядочно бегут по обочине с узлами в руках беженцы.
- Давай, родная, давай! – погоняет лошадь Абраша.
А отец Давид, как самый опытный, посматривает на небо, как будто предчувствуя, что именно оттуда грядет опасность.
Такое тихое синее небо, и вдруг… тишина разорвалась рокотом моторов, и вот уже чужие самолеты выскочили из-за облаков, громадные и страшные, с черными крестами с двух сторон.
- Мама, мама! – выскочили из телеги дети.- Бежим, быстрей, быстрей!
До спасительного леса – совсем немного, там можно будет спрятаться среди деревьев, залечь в какую-то канаву. Ноги подгибаются от страха, от ужаса, будто приклеились к земле. Но надо бежать…
Впереди бегут дочери, и, останавливаясь, поджидая мать и отца, машут руками, кричат, плачут, торопят родителей, но куда тем угнаться за молодыми? А дети – разве могут они бросить родителей? Вот и не добежали до леса. Рядом раздается взрыв… Взлетают вверх комья земли, травы, кустов, со всех сторон свистят пули...
- Падай, падай! В жито, в жито! – кричит кто-то.
Густой стеной здесь когда-то стояли хлеба. А теперь они сломаны, помяты. Как хочется прижаться к земле, как хочется найти в ней спасение! Зарыться поглубже, чем-то укрыться, чтобы не увидели сверху, в самолете. Все вокруг гудит, шумит, грохочет, кажется, этому никогда не будет конца, но вдруг… все стихает.
Постреляв по безоружным мирным людям, немецкие летчики взмыли вверх. Возможно, изначально, они шли на какое-то основное задание, но, увидев колонну людей, решили здесь поразмяться, оставить свой кровавый след...
В кювете подрагивают подстреленные лошади, повсюду разбросаны вещи. А вокруг - все те же васильки, только не голубые они теперь - людской кровью залиты.
- Вперед! – гонит лошадь Абраша.
За лесом уже Россия, а там, если повезет добраться, наверняка будет железнодорожная станция. Только бы успеть на какой-нибудь поезд!
- Быстрей, сынок, быстрей! – торопит его Соня, всегда спокойная, хладнокровная. Она берет власть в свои руки.
- Куды? Куды, жиды, утикаете? – выскакивает с палкой посреди дороги какой-то мужик, а за ним еще трое подвыпивших .
Впереди разобран мост, под ним – река, после реки - мост. Видимо, специально его и разобрали, поджидая здесь беженцев. Кому война, а кому – нажива!
Абраша решительно шагнул вперед.
- Вот что, хлопцы, не берите грех на душу, Если нам суждено погибнуть – пусть это сделают немцы, а не вы. Вам нужны наши вещи, деньги – забирайте. Дайте только проехать через мост!
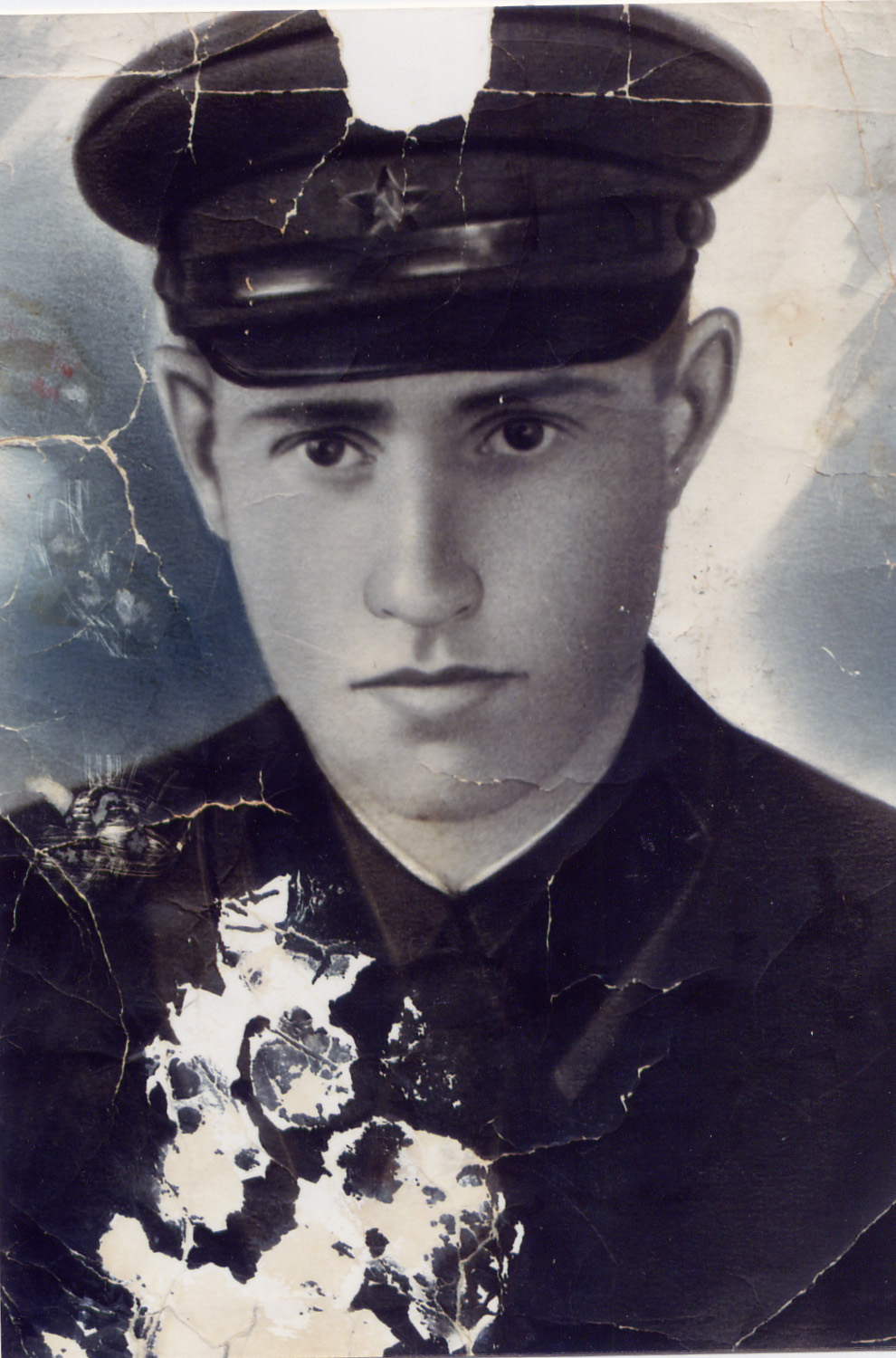 Видимо, время еще не пришло, чтобы евреев поголовно убивать, а может, удивившись такой напористости, освободили мужики дорогу. Поживились скудным скарбом и нехитрой снедью многодетной еврейской семьи, оставили ее без самого необходимого, но зато живыми отпустили.
Видимо, время еще не пришло, чтобы евреев поголовно убивать, а может, удивившись такой напористости, освободили мужики дорогу. Поживились скудным скарбом и нехитрой снедью многодетной еврейской семьи, оставили ее без самого необходимого, но зато живыми отпустили.
Но оно еще придет, придет это страшное время. Не все, конечно, но многие в Белоруссии запятнали руки еврейской кровью.
... И снова в путь. Где на повозке, где пешком.
Подальше от деревень, от людей. И все по проселочным дорогам. Когда ночь застанет, то лучше ночевки, чем в стогу сена или где-нибудь на лесной лужайке, не найти..
И вот, наконец, выскочили на широкую дорогу. Впереди показались станционные постройки.
- Нет места в эшелоне! В первую очередь – раненых! – отшвырнули семью с перрона.
- Наш сын – на фронте с первых дней, - показывая его документы, не отступали Соня и Давид. – Второй сын, как только нас отправит, тоже уйдет на фронт. Как же они будут воевать, не зная, где мы и что с нами? – упрашивали они воинских начальников.
Конечно, если бы были они сильными и наглыми, то, возможно, и удалось бы им, отбросив кого-нибудь от дверей вагона, заскочить и занять чьи-то места. Но не было у этих людей ни силы, ни наглости, не были они приучены выбивать что-то в жизни за чужой счет.
- Хорошо, отдайте нам для нужд армии своего коня, а сами садитесь в товарняк, - сжалился какой-то военный командир.
Повезло, ой как повезло…
В простреленной уже несколько раз теплушке семья беженцев примостилась в уголке вагона. Стучат колеса по рельсам: тук-тук-так, тук-тук-так… Усталые, измученные, свалились прямо на полу. Рядом – такие же несчастные. Все забито, до сантиметра, изможденными людьми. Ни встать, ни прилечь. Где нашли место – там и стоят. Не повернуться, не выпрямиться. А поезд мчится из горящей Белоруссии в российский тыл, все дальше и дальше. И снова рев самолетов, снова бомбежки.
- Проскочили, проскочили, – кто-то говорит, всматриваясь в узкую дверь. А рядом, на соседней колее, разбросаны вагоны – здесь только что прошел поезд, который разбомбили буквально за полчаса до прибытия их эшелона.
Не сосчитать, сколько было бомбежек, сколько раз соскакивали с подножки вагона и бежали куда-то в укрытие, сколько раз не досчитывались своих соседей по теплушке. Но видимо, Б-г берег мою будущую маму и ее семью.
На одной из остановок, когда беженцы вышли из вагона немного отдохнуть после тяжелой поездки, к ним подошла группа военных:
- Сколько девчат! Дайте нам одну на всех! Такие молодые, как вас зовут? – обратились они к Соне.
Соня первая обратила внимание на то, что они говорят с каким-то акцентом. Ведь все боялись немецких диверсантов, а они здесь ходили в открытую.
- Да какие они девчатки? Тифозные, туберкулезные! – замахала руками мать. Перед этим всем дочерям приказала намазать лицо какой-то сажей или краской, повязать старые косынки, стараться горбиться. А когда непрошенные незнакомцы отошли, сказала:
- Если кто из них услышит еврейские имена, все поймут, кто мы.
В тот вечер Рейзеле стала Раей, Малка – Марусей, а моя мама, которая не любила свое имя Циля, решила, что будет Ириной – это имя ей нравилось еще с детства.
 Эшелон продолжал свой путь в глубь России, под бомбежками, под пулеметными очередями. Не только семья моей мамы – тысячи и тысячи еврейских семей спасались от врага, чтобы потом, вернувшись домой, продолжать жить дальше – создавать семьи, рожать детей.
Эшелон продолжал свой путь в глубь России, под бомбежками, под пулеметными очередями. Не только семья моей мамы – тысячи и тысячи еврейских семей спасались от врага, чтобы потом, вернувшись домой, продолжать жить дальше – создавать семьи, рожать детей.
Пройдут годы – и снова волна еврейских семей поднимется с насиженных мест. Но это все в будущем , а пока предстояло пройти еще много дорог...
Глава девятая. Я вернусь, мама…
А война уже приближается к Михалину, вовлекая в свой страшный водоворот все новые и новые судьбы...
Над Михалинским большаком стояла редкая тишина. Вековые березы, высаженные вдоль сельской дороги, ведущей из поселка Михалин в город Климовичи, что в Могилевской области, будто понимали состояние людей. Не шумели ветвями, не шелестели листьями. Еврейский колхоз "Энергия" провожал на фронт своих сыновей. Не было уже сил на слезы, на причитания, в последние дни хотели только словом обмолвиться. Маленький взъерошенный Давидка все не мог оторвать от себя заплаканную мать и четырех братьев и сестер. - Какой ты солдат?! Еще и 18 нет, меньше всех… - говорила ему Сара, имея в виду друзей его детства – братьев Лайвантов, Болотиных, Стукало и других еврейских ребят.
- Мама, что ты! Нас же много, мы победим! – задиристо отвечал Давид.
 С улицы его уже звали ребята, послышалась команда: "Строиться!" Десятки еврейских парней еще и еще раз бросали свои взгляды на родной Михалинский большак, на эту дорогу. Здесь прошло их босоногое детство, отсюда они уходят навстречу врагу.
С улицы его уже звали ребята, послышалась команда: "Строиться!" Десятки еврейских парней еще и еще раз бросали свои взгляды на родной Михалинский большак, на эту дорогу. Здесь прошло их босоногое детство, отсюда они уходят навстречу врагу.
Сара, несколько дней ранее проводившая на фронт своего мужа Залмана, а теперь и старшего сына Давида, молилась во всеуслышание, чтобы еврейский Бог их сберег.
Все дальше и дальше уходили совсем еще мальчишки, в одночасье ставшие воинами. Сара всматривалась вдаль, все искала в колонне своего первенца. Вдруг она увидела, как кто-то из последних рядов, как самый маленький по росту, приостановился.
- Наверное, это Давидка. Что с ним? – встревожилась мать.
И вдруг она услышала его звонкий, такой до боли родной голос:
- Мама! Мама! Я вернусь! Ма-ма…
И колонна призывников скрылась за последними березами большака…
Глава десятая. А город молчал...
Проводив мужа и сына Сара осталась с младшими детьми.
В ночь с 4 на 5 ноября 1941 года она не могла сомкнуть глаз. Прикорнув на полу возле самой младшенькой Ханы, она все поправляла на ней какое-то покрывало. Старший сын, четырнадцатилетний Муня, не отходил от окна и молчал, не мог выговорить ни слова.
- Что делать, мама? – тревожно спрашивал он. – Как спастись?..
- Что можем мы сделать с маленькими детьми? Как все, так и мы. – в голосе ее звучала безнадежность.- В городе много евреев, переселят всех в одно место, как обещали, а там видно будет – отвечала Сара, успокаивая сына.
Только сама своим словам мало верила.
- Порешат вас, жидов. Сарочка, вот-вот уже яму приготовили за городом.- Скалил желтые зубы сосед.
- За что? – недоумевала Сара.
- За то, что жы-ды! – Коротко объяснял своей соседке, матери многодетной семьи, с которой, казалось, раньше и дружили, и, не теряя времени, срывал с ее плеч платок.
Утром залаяли собаки. В дом с грохотом ворвались полицейские.
- На выход! – закричали они, выталкивая из дома.
Все больше и больше людей вливали в многоголосую толпу. По всей округе разносился детский и женский плач, крики бессилия. Мерзлая ноябрьская земля была твердой, будто отталкивала от себя людей, чтоб они могли куда-то улететь. Черное грозовое небо тяжестью придавило медленно ползущую колонну. Убегать было некуда, со всех сторон – собаки, полицейские. Впереди зеленели редкие фигуры немцев. Черное грозовое небо тяжестью придавило медленно ползущую колонну.
- Гады! Не дождетесь моей смерти! – с криком бросилась в придорожный колодец красавица Рива.
... А город, родной город, молчал. Бывшие соседи в страхе отворачивали заплаканные глаза. Жалко было – да чем поможешь? Но таких сочувствующих было немного, больше тех, кто считал, что так евреям и надо.
А что могла Сара и такие, как она? В последний день, с трудом достав повозку, направилась на конях в сторону соседней России.
- Куды уцякаеце? – Назад, жыды! – взломав мостик перед речушкой, остановили их местные мужики, а вскоре немецкие мотоциклисты повернули Сару и других обратно…
Колонна со слезами, с криком медленно доползла до амбара.
- Куды не глянь – усюду яврэи, а зараз без их и дышать буде лягчей! - выступал один из полицейских.
Евреи были обречены – да и как могло быть иначе, кто был в той толпе? Старики, женщины и дети. Мужчин давно забрали на фронт. Кто смог – уехал в эвакуацию. Остались только самые обездоленные, да немощные. Среди них и Сара с детьми.
- Заходи! – послышалась команда.
Измученные люди с надеждой заходят в городской амбар, думая, что их временно определяют на покой. Что будет дальше, куда и когда их собираются отправить?
Через несколько часов в дверях появились полицейские с оружием. Выхватив передних, они повели их к яме…
- Еврейский Бог, где ты? Разве ты не видишь, как убивают твоих детей? – молился старый раввин.
- Давид, Давид, сын мой! Останься хоть ты в живых! Живи за нас! – взмолилась, глядя в небо Сара, которую вместе с детьми подталкивали все ближе и ближе ко рву…
Прошли годы, я хочу как-то осмыслить по возможности ту ситуацию, в которой оказалась семья моего отца.
Фронт откатывался от западных границ всё дальше и дальше, почти без сопротивления.
Работая в газетах Белоруссии и России, я встречался со многими фронтовиками.
- Понимаешь, была общая неразбериха, что вообще присуще российской действительности. Не было никакой информации о происходящем. Вся связь была нарушена, - рассказывал мне один фронтовик.
- Не было оружия, не было тылов, - вспоминал другой, боевой офицер, прошедший всю войну.
Скажите, если была такая неразбериха везде, сверху донизу, то что мог сделать в той обстановке простой еврей из маленького местечка, а если конкретно – что могла сделать моя бабушка Сара, 35 лет от роду, с оставленными на её попечение тремя детьми?
Я сегодня её старше почти на 30 лет. Мои дети её старше…
Для меня она так и не успела стать бабушкой…
Я часто думаю – бабушка Сара, бабушка Сара, почему же ты не убежала с детьми? Почему не вырвалась из огненного кольца? Ведь многие выбрались, успели вырваться.
Что помешало тебе остаться в живых?..
Задаю ей вопрос через годы, через время, и представляю ответ:
- Куда я с детьми одна? Муж Залман и старший сын Давид - на фронте. Дочке Злате – 15 лет, сыну Муне – 14, самой маленькой, Хане – 3 года. Сколько же километров я бы ее пронесла на руках – без еды, без воды, без одежды?..
Но другие ведь вырвались, вырвались…
Задаю мысленно вопрос брату моего деда Айзику.
-Айзик, Айзик, ты же мужик, не такой уж и старый – моложе меня, сегодняшнего, на 10 лет. Что же ты не взял на себя ответственность за семью, почему ты медлил?..
Будто вижу его, взволнованного, расстроенного. Седая борода всклочена, глаза горят…
- Ты знаешь, сколько нас было, всех Златкиных? 13 человек. Это не одна повозка и не две. А где их можно было найти?
- А поезд? Он ведь отходил от станции Климовичи, и сотни евреев поспешили уехать в эвакуацию.
- Поспешили, спаслись. А мы вот не успели... Да только ли мы?
Сотни и сотни евреев оставались в Климовичах, в Родне, в Милославичах и в других крупных пунктах района. Да в любом из них было немало наших единоверцев.
Все смотрели друг на друга, надеялись, что фронт пройдёт где-то стороной, все как-то обойдётся и не придется с маленькими детьми без денег, без запаса продуктов отправляться в дальнюю дорогу.
Были и такие, которые уверяли, что германец не страшен для еврея, мол, идиш и немецкий язык – почти один и тот же язык, и в первую германскую немцы относились хорошо к мирному еврейскому населению.
Другие молились и не хотели ничего видеть вокруг себя, да ещё и сдерживали других от активных действий. Мол, нужно надеяться только на Всевышнего.
Кто-то вообще успокаивал, мол, всё это манёвры Красной Армии - вначале она отступает, отвлекает врага, втягивает в кольцо окружения, а потом, как ударит по врагу! Многие боялись попасть ъпод бомбёжки, прямо в лапы к немцам, надеялись тихо отсидеться в родных местах.
"Кому мы нужны, в этом захолустье. Здесь нет никаких оборонных центров, воинских частей. Германец сюда и носа не покажет".
Город опустел. Канонада приближалась всё ближе.
- Айзик, я видел в кустах двух колхозных коней. Давай их возьмем и уедем отсюда поскорее! – вскочил в дом запыхавшийся Муня.- Быстро, быстро за мной!
Колхозные кони, вырвавшись на волю и уже одичав, не подпускали к себе людей. Но Айзик, столько лет работая с лошадьми, зная их повадки, подбирался, подбирался, пока не ухватил за холку одного, а потом и второго коня.
Нашли и отремонтировали какие-то брошенные повозки. Быстро набросав кое-что из вещей, погнали коней на восток. Климовичи - родня, грунтовая дорога. За ней – поворот на Хотимск. Ну, а там уже рукой подать до России. Там – железная дорога, по которой ещё иногда проскакивают эшелоны.
Гонит лошадь Айзик, гонит лошадь Муня, ставший в 14 лет старшим мужчиной в семье моего отца. Выскочили за город. Впереди – зелёное поле, за ним - лес, все ближе и ближе его зеленая полоса....
Вдруг появляется белое облачко, потом второе, третье, десятое...
- Что это, что?! – заломила руки Сара.
- Немецкие парашютисты, - побледнел Айзик.
Вскоре навстречу несчастным беженцам выехали в зелёных мундирах, с автоматами в руках, мотоциклисты. Окружили беженцев, замахали руками.
- Цурюк, цурюк! Назад, назад!
Может, одного дня, а может, полдня, а может, только одного часа не хватило моим родным. Ещё бы чуть-чуть, только чуть-чуть, и они бы проскочили эту полянку.
Не проскочили…
Всё остановилось, опрокинулось, потеряло смысл.
Возвращались обратно под конвоем немцев.
Но возвращаться было уже некуда.
Прошло всего несколько часов, как уехали, а те, кто раньше были хорошими знакомыми, почти друзьями, вынесли из домов евреев все, что было возможно.
Первой это заметила Сара, увидела у одной соседки свою косынку, на другой – жакет.
- Люди, люди, что же вы делаете! – хотела кричать, но из горла вырвался только сдавленный хрип.
Опустевший, разграбленный дом, голые окна без занавесок.
- Ну что, жидовка, убежала? Теперь всех вас порешат, всех до одного! – вбежал в дом сосед Володька.
За ним выглядывал его сын Стасик, ровесник Давида.
Сколько раз они приходили в дом к Златкиным, сколько раз угощала их ласковая Сара.
Кто бы мог подумать, что друзья отца и сына станут её врагами.
- А ты не боишься, что Залман и Давид вернутся и рассчитаются с тобой? – выскочила к ним навстречу боевая Злата Златкина.
- Рассчитаются? – хмыкнул Стасик, да они уже никогда не вернутся живыми, и вас тоже порешим
- Всех порешим, всех! – доносилось с улицы.
Как жили – трудно сказать. Да и не жили уже, а дожидались своего конца, как избавления от этого ежедневного кошмара.
Другого избавления для них было не дано, всем было суждено принять мученическую смерть.
За окном ударила гроза, сверкнула молния.
- Злата, Злата, мне страшно! – вскочила маленькая Хана. Прижалась к матери.
- И я не сплю, мне так давит сердце, так тяжело, как будто что-то случилось, - подняла на мать заплаканные глаза Злата.
Вскочил взъерошенный Муня. Сверкнувшая молния высветила на стене листок календаря, его число – 6 ноября 1941 года.
Обычно в эти дни праздновали годовщину революции. А каратели именно в день 24-й годовщины запланировали провести военную акцию. Окружили город воинскими подразделениями, полицейскими нарядами, будто перед боевой атакой, хотя в атаку нужно было идти на обычных мирных жителей,
в большинстве своём стариков и детей - молодые еврейские мужчины и юноши были на фронте.
Утро, ноябрьское утро. Её разбудил женский плач, детские крики. Всё уже было подготовлено – и боеприпасы, и даже яма в конце города. Всех сгоняли к яме, ближе, ближе, ближе. Впереди была смерть – страшная, мучительная.
Родные мои Златкины, которых я никогда не видел - бабушка Сара, Муня, Злата, Ханочка, Айзик, Генух, Хая, Софья, Марик, Гирша, Хаим, Бэйла,Бася...
Архивные данные, которые я обнаружил в городском музее, свидетельствуют о том, что в дни октябрьских праздников было расстреляно 800 человек, и это только в самом городе. Жители рассказывали, что еще не один ещё день земля ходила ходуном, истекая кровью невинных жертв.
Глава одиннадцатая. Залман – мститель...
Причудливы дороги войны, ее изгибы неисповедимы...
Ночь прошла, махнув своим чёрным крылом. Комбат, соскочив с подножки машины, направился к бойцам:
- Разгружайтесь, срочно на построение!
Позади долгие фронтовые дороги. Многие из них были в колдобинах, с ямами, переполненные водой. Машины проваливались. Одна заглохла, вторая. Наконец, приехали. Сапёры слушают команду офицера:
- Наша задача – навести переправу, - говорит он. – Утром будет танковая атака. Не будет вовремя моста – атака сорвётся.
- Все к переправе! А вы, - приказал командир Залману и ещё пятерым солдатам из его отделения, - в оцепление!
Залман кивнул головой в знак согласия. Бывалый солдат, он не был старшим по званию, такой же рядовой пехотинец, как и пятеро молодых бойцов, вместе с ним обосновавшихся на высоте в обороне.
Где-то трещит кузнечик...
- Ку-ку, ку-ку, ку-ку… - доносится из леса.
- Кукушка, кукушка, сколько мне осталось, - улыбнулся в темноте чумазый казах Арсенбаев.
- Ку… - повис одинокий звон кукушки.
Побледнел Арсенбаев, повернулся к Залману:
- Отец, ты слышал?
- Да брось ты! Кукушка знает, кому сколько осталось? Улетела далеко, ты и не расслышал.
Прислушался молодой казах, но нет кукушечьей трели, нет, слышно лишь треск мотоциклов.
... Немцы.
Залман тревожно взглянул на бойцов.
- Ну и что? Сколько их уже было у нас? И где все? – грозно прикрикнул сержант Дуктов, и скомандовал:
- Взвод, приготовиться к бою! Без моей команды не стрелять!
Грохот мотоциклов как будто заполнял всё вокруг. Казалось, будто нет ничего, только эта сосновая дорога с примятой травой, по которой вот-вот выскочат немцы.
- Подпускаем поближе и стреляем в упор, а пока тихо, тихо! – шепчет сержант.
Залман прильнул к автомату. Сколько уже оружия он сменил за свою жизнь? В первую мировую - трёхлинейка, потом – винтовка, а теперь вот – автомат, добытый в бою.
Мирный человек, крестьянин, колхозник, любил всё живое, и вдруг… убивать! Но на войне как на войне - врага пожалеешь, а он тебя убьет, не задумываясь.
... Все ближе и ближе зелёные фигурки.
Мотоциклисты приостановились, о чём-то переговаривались.
- Разведчики… - протянул один из бойцов.
- Разведчики, – добавил второй. – За ними пойдут основные силы.
Время пока работало на советских бойцов. Главное – протянуть это время, дать ребятам закончить работу.
На переправе издалека доносились частые удары топоров, скрежет металла, шум моторов. Немцы, прислушавшись, вскочили на мотоциклы и быстро покатили по дороге к переправе.
Впереди была небольшая высотка, на которую они не обратили внимания. Здесь-то и расположилась горстка бойцов...
Залман прицелился в белокурого немца, который, одной рукой управляя мотоциклом, второй держал наготове автомат.
Как только он подъехал поближе, Залман, по команде взводного, выпустил очередь в мотоциклиста. Мотоцикл перевернулся колёсами вверх, а немец вылетел из коляски. За минуту-две всё было окончено.
- Срочно убрать мотоциклы с дороги, подобрать оружие, убрать убитых! – скомандовал командир.
Залман быстро подбежал к «своему» немцу, оттащил его в сторону. Потянувшись за его оружием, заметил сумку с документами, которые надлежало передать командованию – может, там была какая-то важная документация. Раскрыв сумку, Залман остолбенел.
На траву выпала фотография. На ней убитый немец стоял вместе с другими автоматчиками в цепи, а перед ними – повозка с людьми.
Среди сидящих в повозке Залман сразу узнал Сару и своих детей.
- Узнал, узнал… - через годы рассказывал он нам, своим внукам.
- Да не может этого быть, дед. Это война, тысячи дорог на войне, миллионы немцев! И вдруг именно тот самый немец, что повернул обратно повозку с твоей семьёй и тем самым отправил её на смерть, встречается тебе во время боя? Это просто невозможно, в это нельзя поверить! – доказывали мы своему деду уже после войны много-много раз.
- Может быть, это была цыганская кибитка, а вовсе и не повозка с еврейскими беженцами? – убеждали мы деда и себя самих.
Может, это была и не моя семья... Может, это было и не в Белоруссии, а где-то в России, или на Украине... Но мне тогда так показалось, показалось… - шепчет дед. – Тогда я еще не знал, что их уже нет. Я с этим жил, живу и буду жить до своего конца.
- Может, показалось, а может, и нет, - соглашаемся с дедом Залманом и мы. – А что было дальше? – выводим мы его из оцепенения.
- Дальше?
... А дальше, Залман, потеряв страх, закричал, как раненый зверь, поднялся во весь рост и, спрятавшись за огромную берёзу, выпускал одну за другой автоматные очереди.
- За Сару, за Злату, за Муню, за Хану, за Айзика – кричал он в бешенстве.
Пули свистели рядом, разрывая берёзу на части, откалывая от неё сучья, ветви. Залману было всё равно. Он не боялся смерти, он искал её, чтобы встретиться со своей семьёй. Неведомым ему чувством дед понимал, что их больше нет. Что-то ударило рядом, подбросило вверх...
Очнулся Залман уже в медчасти.
- Живучий ты, солдат! – улыбнулся ему медбрат.- Тебя не ранило, только присыпало сильно землёй. Контузило. Нашли тебя, когда подоспели наши, которые и отбросили немцев. Ты был без сознания.
- А Арсенбаев, где он, где? Что с ним? – вдруг вспомнил Залман своего юного друга-казаха.
- Вот он, лежит под простыней.
- Сынок! – схватился за кровать Залман. – Тебе же жить да жить! Как же так, как же так?
- Ты его спасал, тащил в укрытие, а он тебя своим телом спас. Пулемётная очередь вся прошла по нему. Так и нашли тебя живого под ним.
- Сынок, сынок… - стонал Залман, прощаясь с молодым казахом. В эту минуту он видел не его, а своего Давида.
Глава двенадцатая. Сержант Златкин, хранимый Судьбой...
А Давид в это время замерзал в подмосковных снегах. В полночь их подняли по боевой тревоге, выстроили на плацу напротив казармы. Седовласый полковник – начальник танкового училища, не мог сдержать волнения.
- Сынки! Москва в опасности. Враг на подступах к столице. Мобилизовали всех – и ополченцев, и студентов. Теперь бросаем в бой вас – курсантов офицерского училища. Жаль, что не успели доучиться. Вместо лейтенантов выпускаем вас старшими сержантами. – И, помолчав немного, добавил: - Сынки! Нужно отстоять нашу Москву! Дети мои, постарайтесь вернуться живыми!
Утром их бросили на защиту одного из участков столицы. Наспех обученные, с одними лишь старыми винтовками, молодые курсанты нередко поднимались в контратаку, проявляя чудеса героизма, однако трудно было противостоять вооруженным до зубов, фашистам. И редели, редели курсантские ряды в грохоте разрывов бомб, снарядов, автоматных очередей….
Находясь со своим пулеметным расчетом в наскоро вырытом окопчике, Давид отправлял очередь за очередью по появляющимся фигурам в зеленом. В угаре боя, потеряв счет времени, вдруг почувствовал, как все тело пронзила жгучая боль. Все вокруг потемнело, не было сил ни пошевельнуться, ни позвать на помощь. Вдруг стало так тепло, хорошо-хорошо, и Давид все больше и больше втискивался в мерзлую московскую землю, все больше и больше покрываясь снежной пургой, так же как сотни и сотни его окоченевших боевых товарищей.
В последний миг, когда он уже почти полностью потерял сознание, вдруг что-то его толкнуло, как будто от резкого удара. Он старался очнуться, но уже не мог, да и не хотел.
- Сынок! Давид! Сынок! – показалось, услышал голос мамы, такой родной голос! Он звал его, поднимал, кричал, возникая откуда-то из небытия, и был такой недовольный, как в детстве, когда Давид проказничал.
- Что? Что? Что? – соображал Давид, приоткрывая веки, дернулся всем телом, сильнее, еще сильнее. – Я ранен, я замерзаю. – Лихорадочно соображал он. - Мама, я же обещал тебе вернуться, обещал, обещал… - стискивая зубы от боли, оставляя позади себя кровавый след на белом снегу, упрямо полз и полз вперед восемнадцатилетний еврейский паренек, наш будущий отец…
... Резко ударил в нос тошнотворный запах снотворного.
- Считай, сержант, до ста, – услышал Давид голос своего врача.
Грузный, большой, он наклонился над ним, убирая со лба черную прядь волос.
- Совсем еще ребенок, и двадцати еще нет, а уже второе ранение, да еще такое тяжелое. Жаль парня, на всю жизнь останется без руки, – Вспомнив про своего сына, тоже где-то воюющего на фронте, рассуждал военврач, - А может, обойдемся без ампутации, постараемся спасти руку? – И тут же набросился на себя: - Брось, майор, у тебя нет права на сантименты. Да, летят руки, ноги, люди остаются, как обрубки. А что делать, война? Некогда, не-ко-гда разбираться. Запустишь – и гангрена, нет солдата, нет человека. Нет, уж лучше без руки, без ноги, но живой. Привязывай к столу! – решительно дав команду санитару, военврач пошел готовиться к операции…
- Десять, двенадцать, двадцать… - считал Давид, стараясь припомнить, где он и что с ним. "Думай, сержант, думай!" – подгонял он себя, засыпая. – "Да, был уже госпиталь, было первое ранение, что потом? Что потом? Маршевая рота на фронт. Провожая ее, обходили бойцов полковник Гусинский и майор Басин. Давид навечно запомнил их имена.
- Фамилия? – грозно спросил полковник.
- Сержант Златкин. – отчеканил Давид.
На секунду помедлив, Гусинский кивнул своему ординарцу. А наутро, когда рота уходила на фронт, прибежал посыльный: "Златкина – в распоряжение штаба!"
Будто получив известие от еврейского Бога, что из всей семьи остался только этот Давидка, Гусинский спас его на этот раз от неминуемой гибели. А потом что?
Несколько месяцев в порту Кабоно-Коса, откуда по "Дороге Жизни" доставляли в Ленинград продовольствие, медикаменты, вооружение. Но что было дальше? Дальше? – пытался вспомнить Давид.
А дальше – штрафной батальон. Выписав по неопытности, или, скорее, из жалости, какой-то пропуск, он навлек на себя гнев начальства. Ничего такого серьезного в этом не было, но уж слишком примелькался этот черноглазый сержант в белом полушубке.
Штрафбат… По молодости, он еще не очень воспринимал высокие слова о патриотизме, о любви к Родине. Сошлись там, в кровавой схватке, штрафники и власовцы. У первых был путь назад - искупление кровью, у вторых и этого не было. Яростные атаки сопровождались криками в магафон с матами- перематами
- За кого воюете!? За фашистов?! – неистовали одни.
- А вы за евреев, за большевиков! – не уступали другие. Давид знал, за кого он воюет – за мать, за братьев, за сестер, за родной город.
Он даже не думал, идя в бой, сможет ли вернуться живым. Он был солдатом, просто воевал. Ну, а надежда остаться в живых – как же без нее! Ведь он обещал маме вернуться...
- Меня же ранило в руку, вот почему я здесь! А рука… Как же я буду без правой руки писать? – лихорадочно соображал Давид.
И вдруг неожиданно для себя, для всех, левой здоровой рукой оттолкнул медсестру, ногой сбросил мешок с песком и с криком: "Как же я без руки?! Как?!" – и к изумлению всех, выскочил из операционной.
Этот инцидент решили замять. "Черт с ним!" – решил военврач, приказав никому из медсестер к нему не подходить. А Давид метался в горячке. Сжав зубы, отвернувшись к стене, он находился в забытье, только просил: "Пить… пить…" Одна из медсестер, ослушавшись, тайком продолжала ухаживать за раненым, помогала ему, чем могла.
Открыв глаза через несколько суток, Давид, как будто увидел над собой лицо своей старшей сестренки.
- Как оказалась ты здесь? Как могла меня найти? Где все остальные? – слезы душили его.
Медсестра, склонившись над ним, молчала, не перебивала, понимая, что он ее принимает за кого-то другого. Она – беженка из Ленинграда, случайно пристав к госпиталю, будто брата видела в этом маленьком сержанте. Все гладила и гладила его по голове, успокаивая, пока он не уснул. Наутро Давид с ужасом заметил, как в его руке копошатся маленькие белые червячки.
- Все, сержант, теперь пойдешь на поправку. Они быстро уничтожат всю гниль в руке, – уже по-отечески говорил военврач. И добавил: А может, ты и прав, с рукой останешься, правда, красивой я ее тебе не обещаю.
Как сейчас вижу своего отца – он любил ходить дома без рубашки. Правая рука сверху донизу вся исполосована шрамами – страшными шрамами войны.
Глава тринадцатая. Оренбургские булочки
 Жизнь в эвакуации не казалась медом, но это была жизнь...
Жизнь в эвакуации не казалась медом, но это была жизнь...
- Я не просилась быть директором школы. Но коль меня назначили – прошу выполнять все мои распоряжения, - твердо говорила собравшимся на педсовете новый директор школы Ирина Хенькина.
Здесь, в Оренбургской области, три сестры Хенькины были с радостью приняты на работу учителями. Не хватало в области педагогов. Ирину приметили, повысили в должности. И сейчас, ведя свой первый педсовет, она заметила:
- Знаю, есть те, кто меня не желал видеть руководителем школы. Я не просилась, даже отказывалась. И согласилась только с одним условием – что, как только освободят Белоруссию, меня отпустят с этого места работы без промедления.
И сразу же спало напряжение, вздохнула с облегчением светловолосая учительница из местных, претендовавшая на эту должность.
Непросто Ирине быть директором. Прибавка к зарплате была незначительной, больше было забот, проблем. Уроки окончены – и всей школой собирать колоски. Приходит зима – надо заготовить топливо. Такое было тогда время – могли осудить за колосок, сорванный в поле, за опоздание на работу...
А как хочется хоть что-нибудь поесть, особенно вечером, после работы!
- Может, посетим тех учеников, кто не ходит в школу? Это же наша работа! – стреляет глазами озорная Маруся.
- Вообще-то нужно узнать, в чем дело, - соглашается более тихая Ирина.
Сельчане полюбили молоденьких учительниц. Здесь, в глубине России, местные жители не понимали, что такое антисемитизм. Видели в этих девчушках что-то светлое, что-то новое, которое они несут их детям. Родителям было интересно знать, как учатся дети. А в конце встречи гостеприимные хозяйки нередко открывали заслонку печи и приглашали сестер к столу:
- Не побрезгуйте, поужинайте вместе с нами!
Пройдут годы. Но до сегодняшнего дня моя мама вспоминает те оренбургские булочки. До сегодняшнего дня ни одной хлебной крошки не смахнет со стола…
Тогда же заневестилась Маруся, пришло ее время. Кудрявый Николай Чашкин, один из сельских ухажеров, станет ее мужем, отцом ее детей. Как в кино, мелькают страницы их жизни. Такие они были разные – он светлый, с вечно смеющимися глазами, кучерявый, она же темноволосая, обаятельная, поражающая всех какой-то неместной, южной красотой.
Именно благодаря моей тете Марусе, этот сельский паренек станет впоследствии учителем, художником, выпускником московского института. И когда она так трагически рано уйдет из жизни, Николай поставит своей любимой жене на могиле не просто памятник – скульптуру...
 Самого Николая тоже уже нет в живых. А их дети – живут в разных концах света. Старшая дочь Людмила - в Минске, Галина - в Америке. К сожалению, нет уже в живых Светланы, которая всю жизнь прожила в Москве, там же и похоронена. А самый младший, Сашка, любимец семьи – живет в Израиле. Ростом с отца, такой же большой, крупный – настоящий оренбургский казак. А глаза – как у мамы, еврейские глаза.
Самого Николая тоже уже нет в живых. А их дети – живут в разных концах света. Старшая дочь Людмила - в Минске, Галина - в Америке. К сожалению, нет уже в живых Светланы, которая всю жизнь прожила в Москве, там же и похоронена. А самый младший, Сашка, любимец семьи – живет в Израиле. Ростом с отца, такой же большой, крупный – настоящий оренбургский казак. А глаза – как у мамы, еврейские глаза.
А как сложилась судьба второй сестры – красавицы и хохотуньи Раисы? Вышла замуж за фронтовика, капитана Исаака Капланского, родила ему двоих детей. Дочь Раисы, Алла, вместе со своим сыном Романом, живут в Израиле. Сын, Дима, к сожалению, Израиль не увидел – рано умер. Но все внуки Раисы - здесь. Александр, бывший офицер российской армии, и его сестра Ольга, выпускница израильского института, имеют уже своих детей.
Аня и Вера, их дети - внуки старого солдата Абрама Хенкина, тоже здесь. И все- все живут в одном городе Ашдоде- на самом берегу Средиземного моря.
Я часто думаю о том, что всех нас могло бы и не быть, если бы повозка тогда не доехала...
Глава четырнадцатая. На пепелище
Родная Белоруссия - выжженная, разрушенная, разграбленная, осталась позади. Фронт продвигался на запад.
Залман все три года фронтовой жизни постоянно думал про свою семью. Мысленно, он представлял родные Климовичи, где до войны проживало немало евреев. Небольшой, но веселый городок. На каждом шагу маленькие лавочки, небольшие мастерские, где все знают друг друга с детства.
А если по старой грунтовке сначала спуститься с горки, а потом подняться и пройти по прямой - попадешь прямо в колхозный сад. За ним - любимый Михалин!
Здесь, под сенью старых вишневых деревьев, его родной дом, где уходя на фронт, он оставил жену и детей. Хоть бы на миг увидеть их лица, представить, какие они, но вместо лиц - какая-то чернота... Хотел увидеть свой дом- та же чернота...
Зная, какие зверства творились на оккупированной фашистами территории, старый солдат боялся даже подумать о том, что могло случиться с его семьей. Представить, что никого уже нет в живых, что все уничтожены - нет, нет! Надеялся...
Впереди - Польша! Все, как в первую германскую. Тогда тоже дошел почти до самой Варшавы. Только тогда воевал за царя - батюшку, а теперь за Родину, за Сталина. Сколько раз поднимался он в атаку под эти надрывные крики.
Одно до конца жизни так и не смог понять старый солдат, как же случилось, что такая огромная страна, такая сильная советская власть – а семья его осталась беззащитной перед лицом врага. Как ни старался, не мог объяснить сам себе, как же это случилось, что никто не помог его семье, никто не спас жену и детей.
Поделился как-то своими горькими мыслями с верным товарищем, которого он не раз выручал в бою....
- Залман, считай, что я ничего не слышал. Посмотри, сколько штабистов вокруг - им только попадись на заметку, так раскрутят, что сразу же превратишься в предателя и врага народа. Лучше помалкивай и выбрось эти мысли из головы,- урезонил его фронтовой друг.
Старый солдат воевал и мечтал лишь об одном - вернуться в родной дом, к своей семье, обнять жену и детей и жить, жить, жить... Мечтал, несмотря на предчувствие, верил и ждал встречи... Ждал писем, уверяя себя, что они просто не могут дойти... Верил и любил вопреки всему...
Но война продолжалась, и Залман, даже после ранений, долго в госпиталях не залеживался, возвращался на фронт. И только после последней контузии его неожиданно вызвали в санчасть. Седовласый военврач внимательно посмотрел на него, взял в руки солдатскую карточку.
- Рядовой Златкин, 1985 года рождения, еврей, на фронте с начала войны.
Постучал костяшками пальцев по столу, будто о чем- то раздумывая.
- Домой едешь, солдат.
- Как домой?- вырвалось у Залмана.
-Все, пришел приказ. Отвоевался ты, Златкин! Дальше на запад пойдут молодые.
Залман ничего не ответил, сидел, не двигаясь, хотя всем своим нутром понимал, что вот, наконец, наступил этот долгожданный миг возвращения домой, что нужно радоваться, кричать от счастья, но ...
Сердце старого солдата будто окаменело и вдруг... Тяжелые мужские рыдания хлынули из груди, все, что так долго копилось в душе, вырвалось наружу...
Все будто повторилось. Только тогда, после первой германской войны, он возвращался в родные места молодым, окрыленным, с желанием начать новую жизнь. А сейчас? Седой, постаревший старик в длинной солдатской шинели с вещмешком на плечах, оставшись один, без своих молодых боевых товарищей, он как-то сразу поник, упал духом, сгорбился....
Домой добирался товарняком, на попутных машинах, пешком...
Вот и приземистое здание вокзала. Сошел с поезда, подобрал какую-то палку - со всех сторон собачий лай, темнота, редкие огоньки ламп в покосившихся домишках. ..
Чем ближе подходил к Михалину, тем тяжелее ступали ноги, а уж когда вошел в поселок, то и вовсе одеревенели, стали такими тяжелыми, что просто не было сил идти дальше, словно предчувствуя, что там его уже никто не ждет...
Светало, белая полоса неба становилась все шире и шире. Наступал новый день, первый день Залмана на родной земле. Вдруг он увидел женщину со знакомым платком на плечах, любимым платком своей жены Сары.
- Са-ра, Са-ра, - хотелось кричать громко-громко, но не смог. Запершило в горле, послышался только глухое "Са-р , Са-р".
Проследив взглядом, в какую избу вошла эта женщина, кое-как, из последних сил, добрался до этого дома. Дверь открыла немолодая баба с грубым лицом. Уловив взгляд Залмана, устремленный на платок, быстро затараторила.
- Хочешь платок - забирай, мне его Зинка принесла в обмен на ведро бульбы, а ей Дунька передала. Когда ваших погнали на расстрел, Дунька сорвала платок с головы какой-то еврейки. Сама не видела - люди говорили. Да ты входи, входи, солдат, ни-ко-го, ни-ко-го из ваших нет, всех побили.
Ничего не ответил старый еврейский солдат. Глаза слипались от усталости, ноги не двигались, когда последний раз ел и пил – вообще не помнил, но повернулся и ушел, всё поняв и ни на что не надеясь.
Он шел домой, зная, что дома уже нет... Долго бродил по пепелищу, искал хоть какие-то следы, но тщетно... Черные обугленные бревна, поваленные вишневые деревья и ничего, чтобы напоминало о тех днях, когда здесь жила дружная еврейская семья Залмана Златкина.
Каким-то чудом, сохранился дом брата Айзика, который строили вместе. Айзик со всей своей семьей и с его семьей на дне песочного карьера, а в доме хозяйничают какие-то незнакомые Залману люди...
- Ты ку-да прешь жыдавье недабитае, - налетел на него злобный мужик.
Залман только сверкнул глазами. Он, пройдя войну, увидел сейчас в нем врага, а с врагом у старого солдата разговор один...
С силой отбросил мужика на улицу, захлопнул за ним дверь.
В другой жизни и в другое время никогда бы так не поступил. Но сейчас был уверен - закон на его стороне. Он, Залман, родной брат хозяина, вместе строились, а значит, дом теперь по праву принадлежит ему. Пусть его, фронтовика, попробуют выселить!
Но неприятный осадок все-таки остался. Может быть, если бы встретили по-человечески, он бы так не поступил, ведь понимает, что после войны многим негде жить. Разделили бы дом сатиновыми занавесками - и жили бы все вместе, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но после такой злобы и ненависти, оставаться под одной крышей с этими людьми Залман не мог.
Вспоминаю, когда я приезжал в гости к своему деду, всегда играл со своей ровесницей Алинкой, которая жила у него вместе с родителями. Жили в дедовском старом доме и другие чужие ему люди..
- Не могу быть один, а так и дети, и взрослые, все не так одиноко, - колол меня своей жесткой бородой дед, укладывая спать в маленькой спаленке, которая только у него и осталась...
Но это будет потом, через годы...
А тогда, отстояв дом Златкиных, дед начал понемногу осваиваться.
В Михалин возвращались еврейские колхозники - раненые, измученные. Стали приезжать из тыла женщины с детьми. Как-то возрождалась жизнь, но прежней – полной, радостной она уже не была...
Те, кто был помоложе, походили по пожарищам, потосковали у братской могилы и разъехались, кто куда мог, лишь бы подальше отсюда. Не каждый смог бы жить возле разоренных домов, рядом с кладбищем, где покоятся твои родные и близкие. Но куда было уходить отсюда старому Залману?
Не мог оставить он ни Михалин, ни могилы, хотя даже точно не знал, в каком месте расстреляна и похоронена его семья.
Была еще одна причина. В центре Михалина по утрам собирались колхозники. Здесь каждый получал дневную разнарядку. Залман, каждое утро спешил на работу, распахивал осиротевшую землю, ухаживал за ней, радуясь шелковистым посевам, словно возвращался в ту прежнюю, трудную, но такую счастливую, довоенную жизнь.
И каждое утро, перед работой, всегда проходил мимо развалин своего сожженного дома. Знал, чувствовал, что если вернется живым с фронта Давид, его старший сын, то придет только сюда.
Сегодня как-то особенно щемило сердце, как будто в ожидании... чего? Кого? Спешил по улице, последние метры уже почти бежал. А сердце стучало: «Давид вернулся!»
Глава пятнадцатая. Отец и сын – два фронтовика, две осиротевших души
... На товарняке Давид долго добирался до Климович. Поддерживая правую руку, которая была на привязи, хромая на левую ногу, сошел он на перрон вокзала. Казалось, прошла вечность с тех пор, как он уезжал отсюда. От станции до города было еще несколько километров. Почти их пробежал… и остановился. Сердце бешено стучало, а ноги будто приросли к земле. Давид всматривался в лица, ища знакомых – ни одного еврея! Где же все? Раньше их было так много в городе. Неужели это правда, что всех уничтожили?
О массовых расстрелах евреев в середине войны говорили уже открыто, даже писали в газетах, но поверить в это было выше сил, особенно, когда речь идет о родном городе, где жили твои родные, друзья, где на каждом углу тебя встречали знакомые с детства лица. Где они, что с ними случилось?
Ноги сами вывели его на базарную площадь, где всегда было так многолюдно.
- Может, здесь что-то узнаю? – пронеслось в голове.
В обмотках, маленький, с перевязанной рукой, в солдатской гимнастерке, с боевыми наградами на груди, он подходил все ближе и ближе к торговым рядам. И вдруг над ними пронесся пронзительный крик.
- Люди, глядите, яврэйчык!
- Все повернулись ко мне. – рассказывал потом он. - Смотрели на меня такими удивленными глазами, будто увидели живого мамонта, – постоянно вспоминал позже отец. - И тогда, после этого пронзительного крика, после минутной тишины, я понял, что я в этом городе сейчас один, что я здесь чужой.
Захотелось быстрей попасть в Михалин, откуда уходил на фронт. Вот уже березовый большак, вот то место, где расставался со всеми, еще немного – и родной дом... Но вместо родного дома - пепелище. Стоял и... не верил своим глазам... Один, совсем один во всем мире...
А Залмана сердце вело к своему пепелищу, как будто звали его души Сары и детей встречать Давида.
...Шаг, еще шаг, еще...
Сердце у Залмана колотится так сильно, что, кажется, не выдержит напряжение - разорвется... Остановился, прислонился к плетню. Неужели ему не показалось? Неужели это на самом деле? Вонзив кулаки в черную землю, лежал какой- то маленький мальчуган в больших солдатских сапогах.
- Давидка, сынок, живой, живой!
Сжали в объятиях друг друга два солдата - отец и сын, два фронтовика, прошедшие войну, победившие врага, но потерявшие свою семью, всех своих родных. Не на войне, не в бою нашли они свой страшный конец, а в родном селе.
Залман всматривался в лицо сына. Каким он его оставил? Семнадцатилетним зеленым пацаненком, а сейчас лицо, как у человека, прожившего долгую жизнь, увидевшего в ней столько бед и горестей, что хватило бы на многих. Глаза впали глубоко, хочет улыбнуться, но губы сжаты намертво...
Прижав к себе сына, Залман почувствовал, как Давид ойкнул и тихо простонал: «Рука, рука.»
- Сыночек, как же тебя искалечили, - не скрывал своих слез отец, помогая сыну надеть после дороги чистую рубашку на его обожженное, все в рубцах, тело.
- Что рука, что нога? Душа, отец, искалечена, ее как вылечить - болит и болит, - положил, как в далеком детстве, свою голову на колени отца Давид.
Все замерло вокруг, тишина, будто и не было войны.
Стрекозы носились над густой травой, пчелы порхали по белому цветению вишневых деревьев, выросших на месте старых, сожженных.
Залман гладил волосы сына, как в его далеком детстве, прижимал к себе родное тело, говорил какие- то слова молитвы, благодарил Бога за то, что старший сын живой, что остался хоть один среди всех его детей.
Жесткие волосы Давида кололи ладонь. Залман вдруг вспомнил, что раньше волосы у сына были мягкие, будто шелк, а сейчас, как лезвие бритвы. А сам – напряжен, словно натянутая стрела...
- Мальчик, мой мальчик, - то радовался, то рыдал навзрыд Залман.
А Давид, впервые почувствовав, как отходит боль от ран и ожогов, задремал на коленях у отца. Прямо здесь на развалинах своего дома, в окружении набирающих силу вишневых и сливовых деревьев...
И снится Давиду, что он за поворотом и кричит: "Мама, мама, я вернулся!". Кричит, кричит, а себя не слышит.
Хочет повернуться, увидеть маму на михалинском большаке, но вместо мамы... белая береза. Вместо сестер, брата - березы, березы, березы. В один ряд, стоят они на большаке, будто белые памятники...
И слышит старый солдат Залман, как его родной сын, покалеченный и опаленный войной, нежно шепчет во сне: «Мама, я вернулся, мама!»
Многих соседей обошли отец и сын, расспрашивали у каждого, по крупицам старались воссоздать - как все это было, где?..
Они пропадали возле рва, возле силикатного карьера, где не было никаких памятников, никаких надгробий – только поросшие травой холмики напоминали о трагедии, и разрывали их сердца от боли, от безысходности, от одиночества.
... Годы спустя наш Батя наказывал нам: "Не забывайте никогда сами и другим рассказывайте о том, что пришлось пережить еврейскому народу, мне, моей семье"
Я не забыл твой наказ, Батя, поэтому через много лет, будут написаны эти строки, каждая из которых для меня будто огнем выжжена...
Глава шестнадцатая. Горькие яблоки
Михалин встречал новую весну.
Окруженный со всех сторон яблоневыми садами, он утопал в их цветении. Ещё несколько месяцев, и сочные-сочные антоновки, белый налив будут радовать михалинцев.
Это их сад, их колхозный сад! Не одно поколение михалинцев он будет радовать, не одно поколение михалинцев будут связывать свою жизнь с ним, с этим садом.
Пройдут годы, и я, набрав за пазуху с десяток антоновок, пустился в бега от грозного окрика сторожа сада. Спрятавшись в одном из старых домов, я вскоре увидел его возле себя.
- А ну-ка вылазь, вылазь из подвала, – услышал я знакомый голос.
Каково же было удивление обоих, когда в похитителе антоновок сторож узнал меня, своего старшего внука. А я в стороже – своего деда Залмана.
- Какой стыд, какой срам! Мой внук ворует яблоки с колхозного сада, который мы сажали до войны!
Что я мог сказать?
Что яблоки, эти кислые колхозные яблоки были моим самым главным лакомством в голодные годы, и не только для меня. Только посмотрел на деда, и протянул назад, в грязных худых ручонках эти зелёные яблоки.
- Эх, Галик, Галик! – так он называл меня вместо «Алик, Алик», как называют меня в семье.
И пошёл как-то согнувшись.
Как он мог не разрешать воровать яблоки соседским пацанам и разрешать своему внуку?
Для старого колхозника колхозное добро было священным.
Не позволяли еврейские колхозники тащить с ферм молоко, с сада яблоки, с огорода – овощи.
Никогда не позволяли – ни до войны, ни после войны. Поэтому процветал еврейский колхоз – вначале «Энергия», а потом имени Карла Маркса.
Но с того дня хорошо помню – возвращаясь с дежурства, дед Залман вытаскивал из кармана несколько антоновок и, обтирая эти яблоки об штаны, вручал их нам, своим внукам. Дед всё-таки пошёл против своей внутренней совести, приносил нам несколько яблок каждый день.
- Э-эх, Галик, Галик! – всё вздыхал он, гладя по моей голове своей шершавой ладонью. Но это ещё будет, будет, через годы, через десятилетия. А в тот вечер Михалин, наполненный новым цветением, встречал новую весну.
Глава семнадцатая. Ах, эта свадьба!
Еще один крутой жизненный поворот, и вот они встретились – отец и мать, создали новую послевоенную поросль... Жизнь продолжалась..
От прежней жизни остались одни разбитые осколки, но надо было жить дальше.
Мой дед сошелся с женщиной по имени Хана, чудом уцелевшей во время войны. Она носила имя младшей дочери Залмана.
-Ханэле, Ханэле, - говорил Залман, возвращаясь после напряженной работы в колхозе и, будто видел свою малышку Ханэле, которая всегда бросалась ему в объятия, когда он приходил домой.
А другая Ханэле, склонив седую голову над швейной машинкой, все строчит на ней и строчит, напевая при этом: "Бивали дни, гуляли ми, теперь гуляйте ви. Бивали дни, гуляли ми, теперь гуляйте ви".
Залман стоит возле дверей дома и горестно прислушивается к пению жены. Понимает, что все прошло и ни-че-го уже вернуть нельзя...
А Давид - наш будущий отец, уехал в соседний Мстиславль - небольшой городок, до войны густонаселенный евреями. После войны их сюда вернулось немного, однако больше, чем в Климовичи. В Мстиславле жил родной брат отца – Файфа Златкин, так что было к кому заехать.
Приехал сюда Давид на день-два, чтобы просто немного развеяться. Здесь он ведь жил до войны и ему было интересно увидеть знакомых, пройтись по родному городу.
Один из приятелей, бывший фронтовик, работал в школе. Заглянул сюда Давид случайно, благо находилась она в центре города. Зашел в один из пустых классов и... увидел девушку в белой блузке с двумя большими черными косами. Незнакомка стояла у школьной доски и что-то писала на ней.
На какое- то мгновение их взгляды встретились. Девушка чем-то напоминала его сестер, что- то было в ней свое, родное. Давид понял, почувствовал всей душой - это его судьба! За плечами была партшкола, комсомольская работа – тогда, сразу после войны, евреев еще брали на нее.
Он мечтал уехать в один из крупных городов, поступить в институт. Был он парень способный, все хватал на лету. Знал себе цену, да и фронтовиков везде рады были принять. Возможно, все бы было иначе, но... сложилось, как сложилось. Огонь черных девичьих глаз Ирины оказался сильнее огней большого города!
В декабрьский вечер 1945 года древний Мстиславль праздновал первую послевоенную еврейскую свадьбу.
Молодожены были хороши: невеста в белой кофточке, на которую спускались до пояса две черные косы, со светлым миловидным лицом. Жених в новеньком костюме, нарядный, по-фронтовому подтянутый, радостно улыбался, встречая гостей.
- Фронтовик, коммунист, молодец! – Говорили о нем за столом.
А невеста украдкой вытирала слезы. Она и сама не понимала, отчего так хочется плакать – от счастья или от печали. За несколько дней до самой свадьбы родственники принесли жениху костюм всего на один вечер. У него, кроме армейской гимнастерки, одеть было нечего. Помогая ему примерить чужой костюм, Ирина впервые увидела раны будущего мужа и ужаснулась. Знала, что был на войне, знала, что был ранен, но чтобы так было исполосовано, обожжено все тело, не могла даже представить.
- Где ж ты такого завидного жениха отхватила, такого красавца? – шутили подруги.
- Знали бы они, какой он жених, – думала Ирина, но, видя уверенный взгляд Давида, успокаивала себя: А где другие, а где лучшие? Там же, где мой брат Хаимка, остались навечно на войне.
Понимала, что не было времени на большую романтическую любовь, выходила замуж больше от жалости к черноволосому пареньку. А он вспоминал с годами: "Встретились два осколка после войны, да только ли мы?" Да, вернувшись из эвакуации, мигом повзрослевшие девчонки, и, возвратившись с войны, немногие еврейские парни, после такой кровавой войны, искали себе спутников жизни, чаще всего, своей национальности. Каждый парень-еврей был на вес золота, да еще такой!
- Горько! Горько! – веселились в далеком 1945 году в послевоенном Мстиславле на первой еврейской свадьбе.
- Горько! Горько! – веселились на свадьбе под хупой.
Когда за окнами вдруг стала шуметь местная братия, во двор, с оружием в руках, вышли офицеры-евреи и быстро утихомирили буянов. А свадьба, первая еврейская свадьба, пела, плясала, радовалась новой жизни. И так всем хотелось тогда верить, что будет она радостной и счастливой.
"До свадьбы золотой!" – желали одни гости. – "Много детей!" – желали другие.
Не ошиблись как первые, так и вторые. Давид и Ирина отметили свою золотую свадьбу уже в Израиле, перешагнули шестидесятилетие совместной жизни, родили и вырастили пятерых сыновей, но все это будет потом, потом...
А до этого пришлось много всего перенести и выстрадать новой еврейской семье…
Глава восемнадцатая. Бой местного значения
После войны жить было непросто, холодно, а порой и голодно... Но тем больней жалил антисемитизм, не утихающий и никогда не вырождающийся, как сорняк.
Давид подкрутил фитиль керосинки, подправил разбитое стекло с приклеенной полоской бумаги, чтоб не так сильно дымила, и подошел к жене.
- Ира, я пойду в магазин. Может, удастся купить муки.
Ира, растапливая печь, только кивнула в ответ головой, погруженная в тяжелые мысли, чем накормить детей. Ни картошки, ни даже грамма муки в доме не было. А пятеро голодных ртов, как у пичужек, дергают за юбку: "Мама, мама, есть хотим!"
Давид вышел на улицу. В темноте, по знакомой дороге, через кустарник, направился в сельмаг.
- Почему все не ладится? Где выход? – спрашивал он себя, пытаясь понять, что он же сделал не так.
После свадьбы занимал как коммунист неплохую должность - был директором одной из контор. Но как-то в разговоре с сослуживцами неосторожно обронил, что мечтает уехать в Израиль, который приглашает всех евреев вернуться на землю своих предков. Назавтра секретарь райкома, тоже бывший фронтовик, вызвал к себе Давида.
- Значит так, даю тебе на раздумья всего одну ночь. Завтра я уже ничего не смогу для тебя сделать. Сам видишь, какое нынче время, второй тридцать седьмой год, а ты язык за зубами не держишь.
Давид и сам все видел, и все понимал. Убийства еврейских писателей, артистов, расстрел членов Антифашистского комитета, изменение риторики в газетах, поиск внутреннего врага. Утром Давид был уже далеко. За неуплату членских взносов он впоследствии был исключен из партии.
Когда через несколько лет он вернулся в Белоруссию из Оренбурга, то уже не стремился вернуться к прежней жизни. Что-то надломилось в нем. Та партия, та власть, та страна, которой он был так предан, в которую так безгранично верил, вначале предала его семью, а потом и его самого.
Жена устроилась учительницей в Красавичскую семилетнюю школу Климовичского района. Давид, получая пенсию по инвалидности, освоил фотодело и колесил с фотоаппаратом "Фотокор" по окрестным селам. Сельчане с удовольствием позировали перед фотокамерой, покупали фотографии, но постоянных заработков не было, и семья порой просто голодала…
Чтобы хоть как-то помочь жене и детям, Давид решил уехать на целину. Узнав, что среди новеньких есть и один еврей, директор совхоза пригласил его к себе.
- Что можешь?
- В госпитале окончил курсы счетоводов, – ответил Давид.
- Хорошо, будешь инженером по труду и оплате, – решил директор.
Совхоз только-только создавался, расширялся, и все начиналось с нуля. Скоро Давид стал незаменимым специалистом, люди благодарили его за своевременно начисленную зарплату, за все надбавки и премии, которые им полагались. Однако были и недовольные.
- Ты не равняй нас со всеми, иначе плохо тебе будет. Мы здесь уже давно, и ты будешь делать то, что тебе говорят, – повысив голос, вошел в комнату Давида один из немцев-переселенцев.
Их колония была основана здесь еще до войны, и по новым правилам казахстанские немцы играть не желали.
Несмотря на угрозы, Давид продолжал выполнять свою работу как и прежде, будто и не было вовсе того неприятного разговора. Однако, через несколько недель, получил первое напоминание. Поздно вечером, возвращаясь в свой вагончик, увидел, как спущенная с привязи, громадная немецкая овчарка бросается на него. Отступать некуда, бежать до вагончика далеко, рядом никого нет. Давид бросается с криком навстречу овчарке, успевает двумя руками схватить ее за горло и ...
На следующее утро хозяину овчарки передали ошейник. А Давид попросил у директора отпуск.
Жена была на последнем месяце беременности, ждали четвертого сына, и Давид не мог не быть рядом с ней.
- Как она одна в селе, без врачей, без меня? – объяснял он директору причину своего внезапного отъезда.
Был уверен, что вернется, тот инцидент его не расстроил, не напугал – и не такое приходилось пережить. Перед отъездом отправил домой посылку с белым рисом и сахаром-рафинадом. Дети, сидевшие на одной только "бульбе", таких яств и в глаза не видели. Приехал вовремя – вскоре, снежной декабрьской ночью, начались роды. Из соседней деревни силком, на себе, можно сказать, притащил медсестру, которая не могла перешагнуть через большие сугробы.
Вот так, вспоминая те дни, Давид понуро брел по дороге в магазин.
Приоткрыв дверь, вошел в слабо освещенное помещение. Оно было заполнено односельчанами. Многие из них были знакомы. Кивнула головой солдатка Миколиха, у которой квартировали несколько лет, помахал рукой Сенька-балагур, тоже фронтовик, улыбнулась Демьяновна, тоже учительница, как и жена Давида. Здесь, среди людей, на душе стало как-то легче. "Всем трудно, и мы как-нибудь продержимся, прорвемся", – только промелькнуло в голове у Давида, как вдруг...
- А што гэты чужы тут робить? – неожиданно послышался резкий голос.
- Хто чужы? – не поняли в магазине.
- Да гэты жыдюга. За нашай мукой прыйшов? – продолжал сельский бандюга. В овчинном полушубке, в сапогах-бахилах, здоровенный, он возвышался над головами всех.
- Зря ты, Федя, - попробовал его урезонить Сенька - Давид – такой же фронтовик, как я, и пораненный увесь, больш, чым я. Бачыв у бани, – напрасно пытался свести все в шутку Сенька-балагур.
- Да какой фронт, кали в Ташкент драпав, царапнула па задницы, а ты гаворыш – фронт! – Все больше расходился бандит и, чувствуя молчание толпы, совсем озверел: Да я его сейчас угроблю! В то время, когда наши браты-арабы терпят ад израильских агрэсарав, гэты Израиль, гэты агрэсар адбирае нашу муку!
Давид, побагровев, сжал кулаки. Кровь ударила в виски, ему казалось, что снова, как тогда на фронте, он вновь должен без страха и сомнений подняться в атаку. Здесь, через 15 лет, в 1956 году, он снова стал солдатом, обязанным защитить себя и своих братьев-евреев от жестокого и злобного врага. У него, такого хрупкого и невысокого, было только одно мгновение, чтобы опередить громилу, но этого оказалось достаточно, чтобы еврейский ум, как в далекие библейские времена, вновь победил тупую силу.
- Я даю себе команду: "Сержанты, вперед!"- раз, сжимаю его руки – два, бью сильным ударом в пах – и три! Добавляю удар еще раз, когда он еще на полу.
Десятки и десятки раз воспроизводил картину боя местного значения перед нами, своими детьми, наш отец.
Под вой мужика Давид подошел к весам, взял самую большую гирю, обратился ко всем: "Кто еще хочет уничтожить Израиль?" Никто не ответил, только запричитала жена Федьки:
- Люди, православные, нас, христиан, бьют, куда вы глядите?
Но никто даже не тронулся с места, чтобы помочь бандюге.
Единственную в селе еврейскую семью местные жители уважали. Учительницу Ирину Давидовну - за доброту и приветливость, за то тепло, которое она дарила своим ученикам. Давыд, как назвали его сельчане, всегда, по первому зову, приходил на помощь соседям, был их другом и советчиком.
По происшествии многих лет, когда я по командировке газеты приехал в село Красавичи, местные мужики точь-в-точь мне пересказали все то, что говорил мне отец.
- И не подумали бы про Давыда, что способен на такое, - качали головами очевидцы. – Откуда он смог взять силы?
Я знал, откуда. Но как объяснишь это простым людям? Почему в схватке с великаном Голиафом победил хрупкий пастушок Давид – это может быть понятно только нам, евреям.
Глава девятнадцатая. Красавица-учительница из села Красавичи
Помню, хорошо помню, как отец, с бледным лицом, осунувшийся, откуда-то вынырнул вместе с возницей.
- Вот, Ира, он довезет вас до села Красавичи, а я поищу какую-нибудь работу здесь, - говорил он, стараясь выжать улыбку на почерневшем от безнадежности и вечного безденежья, лице. Это позже я узнал, что став инвалидом в 20 лет, потеряв мать, сестер и брата, а потом и оставшись без партийного билета, он безуспешно искал хоть какую-нибудь работу в городе Климовичи. Понимая всю безрезультатность его поисков, моя мать направилась в районо. Его заведующим был Леонид Васильевич Тимахович – бывший партизан, впоследствии любимый учитель моих братьев и герой многих моих очерков. В то время, в конце 40-х – начале 50-х годов, к евреям стали относиться настороженно и предвзято. Назревало дело врачей, только что был убит великий еврейский артист Михоэлс. В стране назревали новые политические процессы, на этот раз суд готовился над евреями.
Но моей матери было уже все равно. Высокая, статная, с черной косой она, наперекор секретарше, без спроса вошла в кабинет заведующего отделом народного образования.
- У меня растут двое будущих солдат. Вырастут – пойдут Родину защищать, как и их отец. Я не прошу милостыню – я требую работы.
Такой напористости бывший партизан не ожидал. Посмотрел на молодую женщину – простое ситцевое платьице, круглые башмаки. Взял в руки документы: и до войны работала учительницей, и в тылу, а позже - директором школы. Вернулась на родину после эвакуации, мать двоих детей, жена фронтовика.
- Какой из нее враг, какая она сионистка? – подумал он, вспоминая заголовки вчерашних газет.
– Ирина Давыдовна, в таких учителях, как вы, мы очень нуждаемся. Верно, что вы можете преподавать русский и белорусский языки, а также немецкий? Кроме того, вы согласны вести и начальные классы?
- Конечно! - не веря своему счастью, подтвердила Ирина.
- Вот и хорошо. Даю вам на выбор несколько сельских школ, - сказал Леонид Васильевич. - Выбирайте любую из них.
Моей матери было все равно, куда ехать. Все села были далеко от города, туда никогда не ходил автобус - бездорожье.
- Может, Красавичи? – прошептала Ирина. – В селе с таким поэтичным названием не должно быть плохо.
И вот, возница поторапливает лошаденку, а мы – я, мой младший брат Яков и мама, сидя на каких-то узлах, едем, едем, едем…
По дороге, соскочив с повозки, моя мать бросилась в какой-то ларек на окраине города и, протянув сетку черного хлеба, счастливо заулыбалась:
- Все, теперь не пропадем, с хлебом будем.
Село Красавичи, такое же бедное, как все села в округе, славилось только своим названием. Считанные годы прошли после войны – народ еще не отошел от ее пожарищ. Повсюду еще сохранились землянки. Зайдешь в избу – в первой половине корова, во второй, через порог – живут люди. Земляной пол, из мебели – только лавка посредине хаты, да в углу печка.
И бывшие партизаны, и вояки-фронтовики, и вернувшиеся после лагерей бывшие пособники немцев – все жили в селе.
И тут – первая еврейская семья, диковинка! Ведь евреев в этих краях убивали повсеместно! Моя мать страшилась только голода – больше ничего. Все ее добро - двое сыновей да ситцевое платье.
С чего начала здесь свою жизнь моя мать? Прежде всего, привела в порядок старую хату. Сама все убрала, очистила коровник, привела корову.
- Детям нужно молоко, - так она решила.
Завела попозже гусей, уток, привезла топливо.
- Вот дает наша новая учительница! Видать, не на один день сюда приехала – надолго! – улыбались сельчане.
И до нее здесь были приезжие учителя, которые жили на квартирах, но они никакого хозяйства не вели.
- Наша новенькая – совсем другая. А в школе, на уроках – тишина. Дети ее слушаются, – с одобрением пересказывали друг другу сельчане.
Пройдет немного времени, и моя мать будет окружена любовью и уважением местных жителей. Но это время должно было еще наступить, а пока...
Я, самый старший, хорошо помню, как поначалу было тяжело моей матери. Даже сейчас ощущаю эту тяжесть. Набросит на себя, что под руку попадется – и по скользкой дороге к колодцу, за водой. А воды нужно много – и для себя, и для хозяйства. Я, конечно, помогаю, как могу. Только какой из меня, дошкольника, помощник! Но если дрова нужно нарезать – тут уж без моей помощи не обойтись, хотя за ручкой пилы меня и не увидишь. Я дергаю на себя, чуть не плача – сил нет, да и от мороза окоченел. Но как я могу маму одну оставить на улице? Вначале сырые дрова шипят, стонут, потом разгораются, и вот в доме уже просто рай.
Тут и булки подоспели – румяные, белые. Это мама из каких-то запасов испечет хлеба, да такие, что все соседи дивятся!
- Недаром дочь мельника, на муке выросла. Такие булки! – все восторгался наш отец.
А он, работая то фотографом в одном из райцентров области, то еще где-то, не забывал семью. В селе ведь не было работы. Как-то возвращается домой, а мать ему даже не успела сообщить о "сюрпризе" – о рождении третьего сына.
- Зашел в спальню – а там непонятно что. Алик – так зовут в семье меня – Яша и еще кто-то третий. Не пойму…
На столе – свежеиспеченные хлеба, в доме – порядок, в сарае полным-полно живности, а мать, усталая, свалилась без ног.
Отец всегда вспоминал про тот вечер, а мать, слушая его, добавляла:
- Ты ведь главного не знаешь. Под утро я с бабкой-повитухой родила Сергея, - так она назвала своего сына в честь мамы мужа (ее звали Сара), а вечером я уже подоила корову и встала возле печи. На кого мне было надеяться?
Мама моя, мама! Ты для меня самая необыкновенная женщина на свете! Воспоминания переносят меня в далекие детские годы.
Ярким солнечным днем я иду в первый класс Красавичской школы. Я так долго мечтал стать учеником. На радостях мы зашли с тобой в сельский магазин, и ты мне в новый портфель положила целую кучу печенья. Помню, ты хотела его открыть, а я от своей детской жадности быстро спрятал его за спину – ведь такое богатство мне досталось первый раз в жизни. Мама только улыбнулась в ответ – сама она была лишена возможности позволить себе такое лакомство. Я обхватил портфель одной рукой, а другой держась за руку мамы, торопливо шагаю, стараясь, как могу, попадать с ней нога в ногу. Мне так хочется казаться большим, взрослым, как мама.
Навстречу нам идут улыбающиеся люди.
- Давыдовна, здравствуйте!- говорят одни.
- Наставница, добрый день! – говорят другие.
- Ирина Давыдовна! – окружили ее ученики.
Нашей маме тогда было чуть более 30 лет. Одна, с маленькими детьми. В Красавичах родились еще три сына – Сергей, Григорий и Лев. До сих пор не могу понять - как она справлялась?
Конечно, отец помогал, как мог, но на многое ли был способен инвалид войны? Поэтому вся тяжесть выпала на ее долю – и она несла ее на своих плечах, не жалуясь и не сожалея ни о чем.
Вот и сейчас я будто вижу ее, яркую, статную, самую красивую в селе Красавичи. Мама спешит в школу, а после нее – домой, к своим детям. Мы ведь дети учительницы – а значит, всегда должны быть в чистых, опрятных рубашках. И моя мама, перебросив через плечо таз с выстиранной одеждой, направляется к реке, чтобы ополоснуть ее. Заходит по колени в воду. Вода бежит, струится вокруг нее, а мы плаваем рядом, барахтаемся.
- Мама, смотри, смотри! – и стараемся сильнее бить ногами и руками по воде.
И снова таз, наполненный одеждой, на плечо. И босиком – по тропинке, по росистой траве к дому.
А местные жители только снимают фуражки и уважительно здороваются с молодой учительницей – наставницей всей сельской детворы.
Как только залохматимся – ножницы в руки.
- Пальцы в рот – чтобы память не отшибло, - командует мать.
Мы ей верим, сидим тихо, не крутимся, не вертимся. Подстриженные, мы кубарем вылетаем на улицу, в коротких штанишках, в белых рубашках.
Каждое утро – бегом к сараю. Знаю – мама уже здесь. Она давно встала, истопила печь, приготовила что-то на завтрак, подоила корову.
В руках – большое ведро с парным молоком. Я взахлеб, не останавливаясь, с наслаждением пью "сыродой".
- Дурачок, его же нужно процедить, куда ты? – треплет меня за волосы мать.
Я поднимаю глаза и вижу ее взгляд – такой добрый и ласковый.
В селе Красавичи мы прожили 7 лет. Не знаю, что было бы в те тяжелые послевоенные годы, если бы наша мама была другой – может, менее приспособленной, может, менее выносливой. Не знаю, не знаю…
Глава двадцатая. Знойное лето 1953 года
 Небольшое белорусское село тепло приняло еврейскую семью – первую после войны. Не все, конечно, были рады новым соседям, но большинство местных жителей отнеслись по-доброму.
Небольшое белорусское село тепло приняло еврейскую семью – первую после войны. Не все, конечно, были рады новым соседям, но большинство местных жителей отнеслись по-доброму.
Село Красавичи было первым спокойным местом для нашей семьи. Отец продолжал поиски себя. Когда не было уже больше сил находиться вдалеке от жены и детей, вернулся с целины, сделал дома самодельную фотолабораторию и заколесил по соседним селам с треножкой и фотоаппаратом "Фотокор", неизменно имея при себе какую-то накидку для фона. По этой накидке я как-то узнал в интернетовском снимке одну семью из Красавичей. Уже внук, уже москвич, искал тех, кто знал его родных. Я откликнулся - так, почти через 50 лет фотография, сделанная моим отцом, протянула, оборвавшуюся было нить, между прошлым и настоящим.
Основные тяготы жизни легли на плечи матери, отец для сельчан был мужем учительницы. Как-то, помню, мороз в разгаре, а для коровы – ни грамма сена. Отец только кряхтит, поднимает глаза на мать.
- Учительница, сено кончилось, - официально он ей сообщает. Мол, попытайся что-то сделать. И мать уходит на поиски корма для нашей буренушки.
Не знаю, к кому она ходила – или к соседям, или к руководству местного хозяйства – ведь в середине зимы у всех была бескормица. Но что в тот день привезла воз сена – помню отчетливо.
Весна в тот год припозднилась. Наконец-то растаял снег. Земля была готова к посадке. На нашем участке было небольшое поле, отведенное под картошку. Кое-что сохранили до весны, что-то прикупили у соседей, но как посадить вручную? Дети все маленькие, У отца – искалеченные войной и работой на целине обе руки.
- Давай поставим корову в плуг, - предложил кто-то из соседей. Мать кое-как, скрепя сердце, согласилась.
А Буренка, любимица нашей матери, подняла на нее свои огромные коровьи глаза, поднатужилась, а сдвинуться с места не может. Да и откуда у нашей Звездочки возьмутся силы после тяжелой голодной зимы?
Как сейчас, помню – прильнула мать к Звездочке, а у той слезы, будто прощения просит за свою слабость.
Глядя на бедную корову, плачет и мать. Так и стоят посредине поля, голова к голове – голова матери и голова Звездочки, а солнце припекает все сильней и сильней.
- Нет уж, как-нибудь посадим картошку, но корову губить не дам! – отрезала мать. И ведь нашла в себе силы, где с помощью детей, а где соседи помогли – но посадила в ту весну картошку, обеспечив всю семью пропитанием на целый год. Так и жили – голодно, но дружно.
- Бульба утром, бульба днем, бульба вечером, - пробовал шутить отец. И уже серьезно, как будто извиняясь, добавлял:- Ира, ну что поделаешь? Ведь не с золотых приисков я вернулся – с войны.
Мать в селе любили все – открытую, простую. Отец был более сдержанным, с осторожностью относился к людям, разделял их на тех, как он говорил, кто советские, а кто нет. Особенно уважал тех, кто, как и он, ушел на фронт в самом начале войны. Но, уж если прикипал сердцем к кому-то, то душа нараспашку, во всем поможет, ни в чем не откажет.
Как-то, размахивая портфелем (единственным на всю школу, остальные ходили с домоткаными льняными торбочками), я возвращаюсь домой, где уже с порога слышу чье-то негромкое пение.
Раскачивая висящую на веревке люльку, в которой находился брат Григорий, отец подпевает своему другу Сеньке. К нему, известному балагуру и гармонисту, прошедшему две войны, финскую и германскую, отец относился с доверием и с уважением.
"По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед…"
И тут же переходил на другую:
"За фабричной заставой, где закаты в дыму…"
Как только заканчивали петь, брат Григорий подавал голос. Так и повелось – как только Григорий в слезы, отец к матери:
- Я за Сенькой.
Теперь я понимаю, почему Григорий так сильно любит слушать песни, любит их переписывать. Он – выпускник филологического факультета, бывший завуч тбилисской школы, тоже живет в Ашдоде. Знаком для многих на "русской улице". Любовь к музыке, видимо, заложили ему в раннем детстве Сенька вместе с отцом.
Всем было трудно, но нам труднее всех: у кого-то был свой дом, у нас – квартира; у кого-то хозяйство – нам еще предстояло им обзавестись.
- На одном месте и камень мхом обрастает, а вы только-только начали обживаться - все успокаивали нас соседи.
И, тем не менее, вроде мы были такие же, как все, жили как все, но почему-то чувствовали себя другими. Когда наступала русская пасха, я не получал от матери новую рубашку, несмотря на то, что мои сверстники в них щеголяли.
Правда, не всегда была новая рубашка, но отец все ставил на свои места:
- Сынок, это не наша пасха, не наш праздник. Подрастешь – все поймешь – разводил он руками.
- Николай С. – мой ученик, талантливый паренек, поговори с ним, – просит мать отца.
И отец, прищурив глаза от солнца, спешит к соседям домой, приглашает Николая к себе.
- Николай, у тебя получится, ты же любишь писать. Посмотри, сколько тем новых вокруг!
- Да где эти темы в нашем селе? Ничего нового.
- Нет, выйди на улицу. Что видишь перед собой вдалеке?
- Школу.
- Правильно, школу. А на ней?
- На ней – новая крыша.
- Вот тебе и название заметки: "Школу готовят к новому учебному году", - наставляет его отец.
Периодически публикуясь в районной и областной газетах, – я помню его статьи с подписью "Д. Златкин, житель села Красавичи" – он постоянно собирал вокруг себя способных молодых ребят. Николай С. – один из них. После сельской школы окончил факультет журналистики Белорусского университета, стал автором ряда поэтических сборников. А начало, возможно, положил мой отец тем давним разговором.
В веренице жизни мои родители не успевали обсудить, обговорить свою жизнь – мол, как живем, что можно изменить? Да и что можно было тогда изменить? Страна после войны залечивала свои раны, и только здесь, в селе, можно было хоть как-то прожить на скудную зарплату учительницы да случайные подработки отца.
Себе не всегда могли помочь – зато другим старались. Как-то мать обронила в разговоре, что ее ученик Николай С. нуждается в лечении, не ходит в школу из-за болезни ног. Отец, недолго думая, куда-то написал, попросил за паренька. Поправив здоровье, он продолжил учебу в школе, а затем поступил в институт.
Уезжая в Израиль, я зашел в кабинет милицейского полковника Николая С. Для меня он не был полковником, не был Николаем Ивановичем – он был Миколой, пареньком из села Красавичи. И он навсегда запомнил, кто помог ему в жизни.
- Миколиха, Миколиха, твой сын лежит в гиревичских кустах! – прибежали к нашей первой хозяйке сельчане.
Миколиха, вдова погибшего на фронте Миколы, одна поднимала троих детей. Нелегко ей было, ох как нелегко! Но первый огурец на грядке, первое яйцо она отрывала от своих детей и делила его с нами. Как младшие братья мы были детям Миколихи, а они нам – как старшие. И узнав новость, что ее сын обессилел от голода и лежит за 5 километров от дома, не может идти домой, хватала Миколиха краюху праснака – смесь картошки и муки – и летела к сыну.
- Миколиха, я с тобой. Подожди, помочь надо! – бежал рядом отец.
Вырос сын Миколихи, и, как и мечтал, стал хирургом. Хорошим хирургом. И когда отцу нужна была срочная операция, Николай Прудников, уже отстояв смену у хирургического стола, снова пошел в операционную.
- Ты что думаешь, ты что сидишь? Вся Белоруссия – черное пятно после взрыва на Чернобыльской станции. Никому не говорят правду, скрывают, но я, как врач, видел секретную карту. У тебя есть возможность уехать в Израиль – так уезжай срочно, спасай свою семью, себя. Один раз твой отец уже потерял свою семью! – горячо убеждал меня Николай.
Это было сразу же, в 1986 году, когда еще никакой информации о чернобыльской катастрофе почти нигде не было.
Глава двадцать первая. Поиски отцовского «строя»?
Отец, по натуре своей человек активный, переживал из-за своей неустроенности.
- Я остался вне строя, мой строй давно ушел вперед, - все повторял он. А я, мальчишкой, все пытался понять, где же найти этот "строй", чтобы мой отец мог туда вернулся.
Я облазил все село, искал на реке, на лугу, обшарил все кусты, но отцовского "строя" нигде не было. И вот однажды, возле своего дома, обнаружил машину, что было редкостью в селе, и выходящих из нее людей.
- Папа, к тебе приехали, чтобы забрать тебя в строй! – радостно размахивая руками, прибежал я к отцу.
Отец вышел на улицу, маленький, колючий, в единственных для такого случая штанах, недоверчиво уставился на приезжих. Я не понимал, о чем речь, но стоя рядом, дергал отца за руку – мол, соглашайся, возвращайся в строй, за тобой приехали. То ли послушал меня, то ли сам невзначай кивнул головой, но решили так, что завтра отец уезжает в соседнее село Высокое, где будет заведующим столовой при машинно-тракторной станции.
Казалось бы, о чем здесь можно говорить? Но как раскрылся здесь талант отца! Никогда он не был на такой работе, даже не знал ее толком. Но вскоре все изменил. Прошло несколько месяцев, и я, взявшись за руку с младшим братом Яковом, направился в гости к отцу.
 Босиком, по мерзлой земле, за шесть километров.
Босиком, по мерзлой земле, за шесть километров.
- Где здесь столовая? – спросили мы у людей.
- У нас уже новая столовая, ищите возле старой – ответили нам.
Вскоре мы увидели красивый финский домик – новую столовую. Мы мало что тогда понимали, но поняли одно – что раньше все воровали у рабочих.
Что сделал отец? Срочно построил новое помещение, сделал на нем решетки, поменял рабочих на кухне, заменил повара и… заимел врага в лице директора местного хозяйства. Обнаружив, что в ведомости количество продуктов записано больше, чем их поступает в действительности в столовую, особенно мяса, отказался ее подписать.
- Я не дам тебе воровать у людей! – жестко заявил директору. – Ты хочешь кормить своих городских друзей – но не за мой счет и не за счет механизаторов.
- Да я тебе грамм мяса не дам для столовой! На коленях будешь просить! – пригрозил новому заведующему столовой всесильный начальник.
Что делает отец? Недолго думая, находит новое помещение и ставит свиней на откорм, чтобы самому делать заготовки для столовой, а не зависеть от других.
Я думаю – каким же инициативным человеком был мой отец! И как было ему трудно, когда просто не давали возможности проявить себя в полной мере.
Вскоре он снова вернулся в Красавичи, усталый и подавленный. На его место работы вернулась прежняя заведующая столовой, которая всех устраивала.
Солнце высоко в зените. Ноги уже не идут – тянутся по пыльной дороге, от села к селу. Из Красавич – в Высокое, из Высокого – в Гиревичи, из Гиревичей – в Тимоново, а за ним уже город Климовичи, и там уже можно будет купить хлеб. Сколько мы уже идем, сколько? Кажется, рядом уже этот долгожданный поворот, но как только приближаешься к нему – он вновь отдаляется. И так поворот за поворотом.
Сколько мне было тогда лет? Лет восемь, не больше. С матерью тащусь в город за хлебом – 20 км в одну сторону, столько же – назад. Не помню, как дошел, как вернулся. Помню только бесконечную дорогу, да песок в зубах. Сколько раз мои отец и мать шли по этой дороге, чтобы хоть что-то из еды принести нам, детям.
Но как-то утром я обнаружил возле своей кроватки голубой маленький трехколесный велосипед. На своих руках, передавая по очереди один другому, принесли его родители из города, принесли для меня в такую даль! Как мне тогда хотелось поскорее вырасти и помочь своим родителям!
Вы знаете, что такое соевая мука? Это такая сладкая мука, настолько сладкая, что если испечь из нее что-то, то в рот невозможно взять. Но если нет ничего другого, то и такая мука – спасение. В сельском магазине меня зажали в очереди, никто не смотрел – где дети, где старики. Все старались успеть схватить хоть какую-нибудь муку, что выбросили на прилавок. Как я дополз до продавца – не знаю, но помню, что насыпали мне, целую наволочку – видимо, пожалели ребенка.
Я поднимаю наволочку с мукой – и… падаю. Встаю, с трудом тащусь по дороге. Солнце жарит нещадно. Кое-как скатился с пригорка. Дальше через кусты – напрямик, километра два, не меньше, к дому. Еле двигаюсь, но не выпускаю наволочку с мукой из рук. Знаю – в доме шаром покати. Где взять силы? И тут вспоминаю мамину улыбку.
Как она мне дала на что-то два рубля, а я купил не то, что она просила - приобрел себе пенал, которого никогда не видел. "Как сказать, что истратил деньги?" – все переживал я. Но мама только, тяжело вздохнув, погладила меня по голове.
Вспомнив это, я с новыми силами зашлепал босиком по пыльной дороге. В тот день отец тоже достал где-то каменные, затвердевшие булки. Вот это был праздник!
Всем было невыносимо тяжело в белорусском послевоенном селе. Как-то заскочил к соседу. Седовласый дед поставил передо мной блюдце с диковинной золотистой жидкостью.
- Ешь, дитятко, ешь, - приговаривал он, улыбаясь. – Это сын нашей наставницы, - сообщил он своим домочадцам.
Так в первый раз я попробовал мед.
В один из дней, мы с братом Яковом, побежали на кладбище, куда направились все жители села. В Белоруссии есть такой праздник - Радоница – когда к ушедшим из жизни приходят родные.
Представьте себе – белорусское послевоенное село, сюда, на могилы родных, приходят сельчане с продуктами, которые они к этому дню готовят заблаговременно, отказывая себе ежедневно во всем.
Ничего не понимая, ничего не зная, мы, мальчишки, тоже здесь, с нашими белорусскими односельчанами. И никто не сказал: "Уходите отсюда". Наоборот, наперебой, один за другим, нас зазывают знакомые и незнакомые нам жители села Красавичи.
- Это же дети Давыдовны, нашей учительницы, - говорили они, угощая нас всем, что приготовили к этому дню.
Мы стали частью той жизни, стали своими всем этим простым, открытым людям.
Глава двадцать вторая. Ночной рейс
Весеннее солнце слизало остатки уцелевшего снега на дороге, оставив его островками на полях возле мелкого кустарника. Распутица уже прошла, дорога большей частью подсохла, но местами еще оставалась опасной для проезда. Да и дорогой ее назвать было нельзя – узкая проезжая часть, беспощадно измотанная телегами, редкими машинами, пешеходами. Ее бы подновить, подправить, но где взять силы? Мужики, считай, почти все полегли в окопах от германца, или засыпаны во рвах своими же, из расстрельных команд, как враги народа. А те, кто вернулся – один-два на село, да и те инвалиды. Подросший молодняк кое-как управляется на тракторах в поле, на фермах. Людей здесь везде не хватает.
Невеселые мысли одолевают Ирину. Уже несколько лет она живет в селе Красавичи. Приехала сюда с двумя сыновьями, а теперь уже – пятеро по лавкам. Вспоминая каждого из них, улыбнулась про себя, но сердце тревожно застучало.
- Куда ехать? Может, повернуть назад?
Только вчера, прихватив старшего сына и спеленав младшего, пятимесячного, вскочила на попутную машину.
Благо, посчастливилось – не каждый день ходят попутки в город. Находясь в кузове, боялась только одного – не выронить бы ребенка из рук, когда машина подскакивает на колдобинах или проваливается в дорожные ямы. Пока доехала до города – руки одеревенели, пальцы не могла разжать, так держала намертво маленький сверточек.
- Мама, мама, приехали! – вывел из оцепенения старший сын Алик, в каком-то кожушке, в кирзовых сапогах, не по годам взрослый от своего положения старшего сына и брата.
Из города – еще пешком три километра, с сумками, с грудным ребенком. Наконец-то долгожданный поселок Михалин! Здесь, в стареньком домике, ее ждал какой-никакой отдых. Давид, ее муж, только что вернувшийся из больницы, где лежал его тяжело больной отец, радостно встретил жену с детьми. Он давно уже упрашивал ее приехать в город.
- Ира, я без тебя с отцом никак не справлюсь, приезжай! – постоянно настаивал он.
Ира не могла бросить мужа в трудное время, но как приехать? Даже не на чем. И вот решилась, примчалась и поняла, что здесь она нужна не на день, не на два – навсегда.
- А как же работа в школе?
- Учебный год уже заканчивается, осталось всего меньше месяца. А здесь, в городе, тоже школы есть и не одна. Нужно переезжать, – убеждал ее Давид.
- А дети, как дети? Как я их привезу, на чем? – ни на минуту Ирина не забывала своих оставшихся в селе детей. Якову – семь лет, Сергею – пять, Грише – три года. Одни, в глухомани, за двадцать километров от города. Попросила соседок:
- Милые, дорогие, присматривайте, я мигом вернусь.
Надеялась на них, но разве чужие люди заменят детям мать?
Давид, человек решительный и горячий, сейчас не мог принять никакого решения. Кому ехать за детьми? Конечно же, ему – он мужик! Но все ли он сделает правильно? Да и отец его в больнице.
- Ира, я думаю, тебе нужно ехать назад, - поднял он на жену свои воспаленные от бессонницы глаза.
Ира и сама понимает, что больше некому. Она была так разбита за прошедшую поездку, что просто с ног валилась от усталости. А ночью поднялась температура у младшего. Мать то брала его в руки, то гладила по горячему лобику, смотрела в глаза, слушала, как он дышит. А он натужно кашлял, задыхался. Мать держала ребенка на руках и все подходила к окну, ожидая увидеть лошадь с повозкой. Как оставить маленького грудного ребенка с температурой, кашлем, на кого?
- Ира, иди, иди. Если нужно будет – я вызову врача, – подталкивал ее к выходу Давид.
Не вызвал он врача. Не до того было. Да и телефонов не было не только в доме – даже во всей округе. А еще из больницы прискочил посыльный:
- Твой отец очень слаб, зовет тебя, плохо ему.
И неверующий человек, Давид, потеряв всю семью на войне и сам оставшийся калекой, стал вспоминать слова еврейской молитвы, услышанные в детстве, стал просить Б-га о помощи.
Он не мог разорваться между больным сыном и больным отцом. Не мог. Кто знает – может, молитва помогла, а может, на роду ему было написано сотворить в жизни много добрых дел – только, к счастью, все обошлось.
Но мать тогда не знала, что и как будет – будущее ведь не дано увидеть, предугадать. Вот она и страдала, сидя в телеге, разрываясь между сыновьями, оставленными в городе и в селе.
- Быстрее, Виктор Иванович, быстрее! Хоть бы засветло приехать!
Лошадь, которая устала после дневной работы, останавливается, и в тот же миг телега вдруг проваливается в какую-то яму.
- Давыдовна, толкай, толкай!- кричит возница.
И Давыдовна, вспоминая весь русский мат, какой только может, толкает изо всех сил. Толкает и плачет, ругается и толкает. Она, еврейская учительница, ругается, как простая русская баба – а иначе, как можно вытащить эту чертову телегу?
Почему жизнь так с ней обошлась? За что?
Под вечер добрались, наконец, до деревни Красавичи. Промокнув до нитки, дрожа от холода, ввалилась в избу. На полу спят трое сыновей, дверь открыта.
- Яша, сынок, проснись! – тормошит старшего мать.
- Мама, мама! – вскочили дети.
А Яша рассказывает, как были одни целый день, как ночевали одни целую ночь.
- Я накормил маленьких братьев, протопил печь, сел рядом возле них, чтобы смотреть, как они спят, и больше ничегошеньки не помню.
Яков, будущий авиационный инженер, выпускник Куйбышевского авиационного университета, с самого детства привык брать на себя ответственность.
Большая хата Горбачева – сельского учителя, где квартировала Ирина Давыдовна, сейчас стала как будто больше. С окон сняли занавески, разобрали кровати, сложили вещи. Мать потом шутила:
- Один Горбачев дал мне свой дом в селе, а второму Горбачеву я оставила свой дом, уезжая в Израиль.
- Немного у тебя добра, наставница, - зашли попрощаться соседки.
- А мне ничего и не надо – вот все мое богатство, - ответила мать, прижимая к себе сыновей.
Но стали нагружать телегу, посадили детей – и оказалось, что места для нее самой нет. Вроде и не особенно много вещей, но ведь все нужно, все наживалось тяжелым трудом.
- Выбрасывай, оставляй здесь, – предлагает возчик.
- Как выбросить, это же детские рубашки? – прижимает их мать к себе.
- Как выбросить эти кастрюльки, в чем же я буду готовить детям? Нет, ничего не могу выбросить!
- Ну, тогда сама иди пешком! – взорвался возчик.
- И пойду! – с вызовом ответила мать.
И пошла - все двадцать километров она шла рядом, и всю дорогу держала за руку самого младшего, Григория. Только бы не выпустить его руку, только бы удержать, чтобы он не упал под колеса телеги или под ноги коня. О себе не думала. А ведь могла и кубарем скатиться в кювет, и сама попасть под телегу. Всю ночь добирались. Приехали только под утро.
Я только на миг представляю эту дорогу, эту ночь. Это нужно было быть не двужильной – стожильной, тысячежильной, чтобы пройти ее, чтобы выдержать. И только когда мать снова увидела пятеро головок на одной кровати – три в одну сторону и две в другую - она смогла позволить себе отдых.
А утром, на новом месте, нужно было начинать все с начала. И этому началу предстояло быть далеко не легким…
Мы видели, что в то время было нелегко и другим. Общие трудности, конечно, не делали нашу жизнь более легкой. Но мы, видимо, благодаря отцу, больше жили будущим - и, наверное, поэтому все выдержали, все перенесли.
Глава двадцать третья. Долгими Михалинскими вечерами...
Весной 1956 года Давид вернулся в Михалин. Вернулся уже не один, а со своей семьей. На отца надежды было мало – он сам, овдовев во второй раз, нуждался в помощи, в сыновней заботе, в детском смехе. Но вначале было не до смеха. В Красавичах у Ирины был хоть небольшой, но постоянный заработок, а здесь она оказалась без работы. Давид, как раньше, так и теперь, перебивался пенсией да случайными подработками, делая фотографии в окрестных селах. Трудно понять, как выжили в те необыкновенно тяжелые времена. Дед Залман, отец Давида, старался помогать, но что он мог на свою пенсию колхозника? Иногда становилось совсем невыносимо, но семья никогда не падала духом.
- Человек силен не хлебом, силен духом, - учил житейской мудрости Давид.- Еда не главное.
- А что главное? – вступала в вечный спор Ирина.
- Книги, духовная сила, - парировал Давид.- Трудности приходят и уходят, а дух, если он есть, остается и побеждает.
Тогда мне думалось, что это пустые слова, но с годами я понял, что это убеждение отца было нашим единственным спасением.
- Дети мои, сегодня у нас – вечер путешествий. Айда ко мне на печь! – приглашал отец нас, пятерых его детей.
Холод в доме стоял страшный, снизу на печи ноги жгли раскаленные камни, но мы этого не замечали, вслушиваясь в волшебный голос отца. Он уносил нас то в камеру тюрьмы, где сидел будущий граф Монте Кристо, то на таинственный остров, где обитал Робинзон Крузо, то на корабль пятнадцатилетнего капитана. Затаив дыхание, мы слушали и переживали за Павку Корчагина, радовались за героев Майн Рида, страдали вместе с Оводом. Повзрослев, мы стали искать эти книги и, перечитывая их, уже знали, что будет в следующем абзаце, на следующей странице – таким подробным был рассказ отца.
А когда заканчивались путешествия, мы наперебой просили: "Расскажи, кем я буду! А кем я?" И замирали, предчувствуя что-то еще более интересное.
- Над Михалином летит самолет, опускается возле нашего дома, и выходит генерал, строитель самолетов Яков Златкин.
- А я? А я кем буду? – теребит отца третий брат Сергей.
- Ты… Художником, кем же еще? – отвечает отец, зная, что Сергей, где и чем только можно, рисует.
- А я?- басит четвертый, Григорий.
- Ты будешь команды подавать, с таким-то громовым голосом! – смеется отец.
- Батя, а меня забыл! Кем я буду? – поднимает глазенки самый младший, Лев.
- Ты будешь академиком, не зря же я тебя назвал в честь Льва Троцкого, – продолжает шутить отец.
Расспросы окончились, все мы радостно хлопаем в ладоши, смотрим друг на друга, будто хотим через годы, через время перенестись в то будущее, о котором мечтаем в эти зимние вечера. А тут уже и картошка подоспела, мать подает нам на печь каждому по дранику, и счастливее, радостней нас нет никого на земле. Мы прижимаемся от холода друг к другу и засыпаем в предчувствии будущей яркой и необычной жизни.
Пройдут годы, Яков окончит Куйбышевский авиационный институт, будет строить самолеты в России, а в Израиле он, подтвердив диплом инженера, получит ответственную работу на одном из заводов юга.
Сергей, бывший инженер-пищевик, в Израиле занимается внутренним оформлением квартир. Когда он подновил мой ашдодский офис, все мои соседи по административному зданию только ахали от восторга: "Да, твой брат – художник!"
Григорий часто выступает перед людьми, руководит различными проектами, являясь заместителем директора районного дома культуры нашего города Ашдода.
Лев, бывший директор школы, много лет преподавал математику в одной из городских школ Ашдода.
Автор этих строк, как и предсказывал отец, окончив журфак, долгие годы работал журналистом. В Израиле, несмотря на свою основную деятельность в области страхования, продолжает периодически печататься в различных русскоязычных изданиях.
Я часто думаю, как мы выжили? Как случилось, что все мы, пятеро еврейских детей из маленького белорусского местечка, сумели поступить в высшие учебные заведения? Все мы достигли своей цели, осуществили свою мечту. Думаю, мы просто переняли от отца его непоколебимую способность выстоять в любых условиях, найти выход из любого, порой самого трудного положения.
- Куда поедем учиться? На Украину – нет, полно антисемитов, в Белоруссии – тоже проблема, а вот в центре России, в Куйбышеве больше открытых людей с настоящим советским характером, они ведь не жили под оккупацией, – выбирает отец место учебы для моего брата.
- Лев – математик, это профессия не оборонная, педагогическая, спокойно примут и в Могилевском пединституте, - отец не ошибается и на этот раз.
Он вместе со мной радовался моим журналистским успехам, очень часто подсказывал интересные темы, проверял, что и как написано, даже диктовал мои первые заметки. Он был моим первым учителем и самым главным критиком. Во всем, что я делал, проявлялось влияние отца.
- Большие города – большие возможности, - говорил он нам, выпускникам вузов. Имея обширную переписку отовсюду, выбирал города нашего будущего местожительства. Так появлялись Златкины в Сухуми, Тбилиси, Перми... "Осталось только в Израиле завести свои точки", - шутили мы.
- Будем и там, обязательно будем! – утверждал отец.
И в этом он оказался прав, наш семейный провидец.
Всю жизнь нам помогали уроки нашего отца, его по-житейски мудрые советы! И сейчас, когда трудно и, кажется, что нет решения проблемы, я мысленно обращаюсь к своему отцу – а как бы он поступил?
Глава двадцать четвертая. Мамино стихотворение
 Почему слова "голод" и "холод" так похожи и по звучанию, и по написанию? Разница – только в одной букве, - дрожа от холода, все время думал я в детстве. Может, потому, что нас, детей послевоенных лет, постоянно преследовало чувство голода. Зима проходила, становилось тепло, но еды в доме не прибавлялось.
Почему слова "голод" и "холод" так похожи и по звучанию, и по написанию? Разница – только в одной букве, - дрожа от холода, все время думал я в детстве. Может, потому, что нас, детей послевоенных лет, постоянно преследовало чувство голода. Зима проходила, становилось тепло, но еды в доме не прибавлялось.
Какие долгие летние дни! Уже вечер, а светло, как днем. И целый день думаешь, как найти в доме хоть что-нибудь съестное. Особенно было тяжело в первое лето после приезда в город.
- Вы бросили рабочее место в селе. В городе работы нет! – наотрез отказывали матери в районном отделе народного образования.
И снова почерневшая, под палящим солнцем, она возвращается домой. Три километра в город, и столько же – обратно. Работы нет, зарплаты нет. Отец закрылся в чуланчике, печатает снимки, лишь изредка выскакивая из своего домашнего убежища, чтобы поесть – но еды в доме нет.
Ирина, тяжело вздохнув, идет на картофельное поле. Картошка только отцвела, но есть кусты посильнее. Без лопаты, чтобы не повредить куст, вонзает свои пальцы в землю, перебирает ее, нащупывает картофелину – одну, две, три. Дров никаких, но не беда. Наготове – два кирпичика, на них – металлический круг. Подняла такие-то палочки, щепочки, и вот уже дымится кастрюля. И какой вкусный картофельный суп из молодой картошки, с добавлением укропа, свежего лука, и другой зелени!
Мне пришлось побывать в самых дорогих ресторанах Америки, Европы, Израиля, но вкус того маминого супа я до сих пор вспоминаю, как самое лучшее блюдо.
Отец, великий оптимист, не унывал.
- Графу Монте-Кристо было намного тяжелее, но он все выдержал. И вы должны быть такими же стойкими, не падать духом, - все поучал он нас.
В то время всем вокруг нас было нелегко, но мы жили, надеясь на лучшее будущее.
К вечеру иногда совершали набеги в соседний сад. Набив свои карманы сочными антоновками, мы ощущали себя вполне счастливыми и даже чуть более сытыми.
Зимой было особенно тяжело - донимал холод.
Мы, дети, прижимались друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, а мать, поднявшись первой, уже готовила завтрак – где она только находила силы?
Как только заканчивалась учебная неделя мы, утопая в сугробах, спешили за хворостом.
Я как старший выбираю дерево посильнее, срубая его, подкладываю на него деревья поменьше. И тянут повозки хвороста по снегу мои братья, останавливаясь и согревая ладошки своим дыханием. Ведь рукавицы или прохудились, или утеряны. Ползут по снегу, не выпуская своей вязанки, даже самые младшие, дошколята Григорий и Лев. Нахлобучив шапки до самых глаз, тянут и тянут за собой повозки хвороста. Никого уговаривать было не нужно, все выходили вместе. Зато сейчас, утром, мать подбрасывает хворостинки потолще в печь, а потом, когда разгорятся, – и все остальное. В доме постепенно теплеет, солнечные лучики пробиваются через замерзшие окна. Светлые зайчики серебрятся, бегают по полу. Настроение у всей семьи улучшается – жизнь продолжается, все устроится.
Так и случилось. Отец нашел себе постоянную работу. Мать, пройдя все круги ада, наконец-то, выстрадав, получила свой первый класс.
Как сейчас помню тот вечер. Младшие – в школе, я готовлю уроки, а мать что-то пишет за столом на кухне.
- Мама, ты что, план работы пишешь? – удивляюсь я, зная, что планы она обычно пишет вечером, когда все уже спят.
- Да нет. Вот, стихотворение написала, так захотелось его написать! Возьми, почитай его.
Рано утром, на рассвете,
Яркий луч блеснул в окне.
Пробудились рано дети
Раз-два-три, и на дворе.
И еще несколько куплетов, и потом уже в конце:
Все прошло, все пролетело.
Зима в прошлом, зимы нет.
Все встречают весну смело,
Позабыв и зимний след.
За окном свирепел ветер, крепчал мороз. А моя мать вдруг пишет стихотворение и мечтает о весне!
Тогда меня это не поразило, поразило сейчас, когда я пытаюсь осмыслить ее долгую, трудную жизнь. А тогда, взяв стихотворение, что написала моя мама, я отправил его в газету "Пионерская правда" под своим именем и фамилией. Отправил просто так, из детского озорства. Каково же было мое удивление, когда через несколько месяцев я его увидел на странице центральной детской газеты Советского Союза.
- Мама, смотри, смотри, что здесь написано! – подбежал я к ней.
- Запомни: выдавать чужое за свое – это все равно, что украсть. В литературе это называется плагиатом, – распекал меня мой отец.
Мать мне ничего не сказала, но так посмотрела, что уши мои загорелись, будто меня застали за чем-то очень плохим.
Пытаюсь вспомнить - что же было дальше?
Лето 1968 года было тяжелым – сначала военные учения, потом события в Чехословакии. Наша ракетная часть туда, естественно, не попала, но мы были на боевом дежурстве. И тут я оказался в госпитале. Пишу домой, сообщаю мой новый адрес. Рассказываю, что со мной все хорошо.
Приехав в госпиталь из казармы, я будто попал в рай – такая была разница между больничной палатой и кубриком ракетной дивизии. И вдруг – письмо из дома. Отец пишет: "Придет время – и ты эту армию забудешь как страшный сон". А вместе с письмом – и второе письмо, из газеты "Во славу Родины" Белорусского военного округа. "Сообщаем, что Ваш материал будет вскоре опубликован".
От этих двух писем я будто выздоровел, больше никакое лекарство мне было не нужно.
А началось все после прошедших крупных учений - я решил про них написать. Проблема была только в том - как и где? В ракетной батарее даже на минуту присесть не дадут, а уж о том, чтобы уединиться и что-то написать – даже и речи не было. И тогда я пошел на хитрость – заскочил в санчасть, мол, простыл и заболел. Я действительно был немного простужен, но не настолько, чтобы получать освобождение. Наутро наш главврач, выведя всех на крыльцо, дал заболевшим солдатам пинком под зад, и кто успел отскочить – был, по его мнению, готов на выписку.
Майор только размахнулся, чтобы врезать мне, как следует, сапогом, а я уже был далеко-далеко и от его сапога, и от санчасти, и от его грозного окрика. Но за одну ночь, сидя в какой-то комнатушке с тусклым светом, я написал статью о прошедших учениях, о своих друзьях, о тех испытаниях, которые мы перенесли. Вскоре она была опубликована в газете. Я даже не поверил - половину полосы занимала моя громадная статья, без какой-либо правки. А внизу – подпись "Слушатель заочной школы военкоров Е.Златкин".
- Златкин, к тебе родные – мать и брат, - ввалился к нам в палату с новостью дежурный.
Я мигом к проходной. Счастливые материнские глаза, повзрослевший брат Сергей. Нельзя было описать нашу радость. Я к ним – с газетой в руках.
- Сам написал, - замечает мне мать, а глаза искрятся гордостью и любовью.
Узнав, что сын в госпитале, мать бросилась в дорогу.
Знаю, что у нее даже не было на поезд денег, видимо, попросила у кого-то в долг. Дорога была не близкая – из одного конца Белоруссии, из самой восточной ее части – в самую западную. Два дня в дороге, чтобы только переброситься словом, чтобы только посмотреть на сына.
Ночь пересидела на вокзале – на гостиницу просто не было денег, да и не думала про нее. Наутро мама снова пришла к сыну. Не имея увольнительной, я, в каких-то чужих спортивных штанах, майке, наголо остриженный, попросту перескочил через забор, чтобы проводить их до вокзала.
К счастью, моя первая в жизни самоволка не была официально зафиксирована, однако в тот же день меня отправили обратно в часть.
Автобус быстро бежал по дорогам Западной Белоруссии. Моими попутчицами были местные гарные девчата, у меня были еще полчаса – час свободной жизни, потом – еще год с лишним жизнь за забором, в воинской части. Но я был уверен, что теперь я обязательно дослужу. Я увидел свою маму и решил, что буду поступать только на факультет журналистики.
Возможно, я бы никогда не принял такого решения, если бы не тот мамин наивный стишок.
Глава двадцать пятая. Сад Давида
 С утра передавали по радио бравые победные марши, щемящие до боли сердце песни военных лет. Страна отмечала День Победы! Давид двояко относился к этому празднику. С одной стороны, он ощущал его своим кровным, близким. В этот день он видел себя семнадцатилетним пареньком, вспоминал боевых друзей, надевал свой праздничный костюм, увешанный боевыми наградами, и выходил в город, на демонстрацию фронтовиков. В колонне шел со всеми – белорусы, русские, евреи - все чувствуют себя одинаково фронтовиками, всех объединяет такое братство, такая солидарность, что этому можно было только позавидовать. И об этом говорили их открытые лица, широкие улыбки, смех, дружеские пожелания. Давид шел в общей колонне фронтовиков, сверкая своими боевыми наградами.
С утра передавали по радио бравые победные марши, щемящие до боли сердце песни военных лет. Страна отмечала День Победы! Давид двояко относился к этому празднику. С одной стороны, он ощущал его своим кровным, близким. В этот день он видел себя семнадцатилетним пареньком, вспоминал боевых друзей, надевал свой праздничный костюм, увешанный боевыми наградами, и выходил в город, на демонстрацию фронтовиков. В колонне шел со всеми – белорусы, русские, евреи - все чувствуют себя одинаково фронтовиками, всех объединяет такое братство, такая солидарность, что этому можно было только позавидовать. И об этом говорили их открытые лица, широкие улыбки, смех, дружеские пожелания. Давид шел в общей колонне фронтовиков, сверкая своими боевыми наградами.
Я много раз фотографировал отца в этой колонне, даже были фотоснимки его и его друзей в городской газете… Радостнее и счастливее, чем в тот миг, я своего отца не видел.
Но, с другой стороны, эту радость омрачала горечь воспоминаний о погибших родных, которые были уничтожены фашистами и их местными пособниками только за то, что были евреями. В советское время память о безвинных жертвах замалчивалась. Долго на месте погребения были просто холмы. Наконец, на личные средства евреев поставили памятник с надписью: "Здесь похоронены советские граждане…"Даже слово "евреи" на памятнике побоялись написать.
В то время, как в городском парке бушевало народное гулянье, гремела музыка, а памятник советскому солдату заваливали цветами, здесь, возле скромной ограды, одинокого памятника погибшим евреям, была тишина. Видя все это, Давид страдал. Ему было трудно понять, почему его страна, за которую он воевал, вначале не защитила его семью, а сейчас просто забыла и продолжает заставлять забывать других об этой трагедии.
Давид писал множество писем в вышестоящие организации: в Москву, в Минск, в Могилев, просил, требовал, чтобы и к памятнику советским гражданам – евреям по национальности, в День Победы, тоже возлагались венки. В ответ он всегда получал сухие вежливые отписки. Правда, в перестроечное время все-таки начали возлагать редкие венки и сюда, но должно было пройти еще много-много лет. Давид хотел официального признания властей. Не дожидаясь этого, каждый год, 9 мая, он, вместе с сыновьями, шел туда, куда так звало сердце, где деревья были самыми высокими в городе.
Вот и сегодня Давид встал пораньше, хотел сходить в город на демонстрацию фронтовиков, а потом вместе с детьми к памятнику. Вышел в сад и остановился, пораженный его красотой. Еще только вчера кое-где пробивалась белые цветы, а сегодня белоснежным покрывалом встретил его цветущий сад. Он как бы поздравлял своего хозяина, своего Давида, с Днем Победы. Давид смотрел широко раскрытыми глазами на деревья. Про каждое из них он мог много рассказать, каждое ему было как родной ребенок. Вот эту цветущую грушу он нашел в кустах возле Михалинского сада, а эту яблоню – за общими постройками. Все они были дичками. Чем-то они напоминали ему его самого – такого же дерзкого, такого же несгибаемого под житейскими бурями…
Хорошее настроение не покидало его с утра. "Скоро должны прийти друзья-товарищи, вместе пойдем в город", - подумал он. " Нужно собираться".
В белоснежном саду утопал новый дом, а вернее, просто квадратная постройка – стены и крыша. Только-только поставили этот дом, хотя поначалу Давид и не собирался строиться – да случай помог.
Михалинский пожар летом 1966 года уничтожил два дома, те два самых старых дома – дом Залмана, отца Давида, и дом одной матери-одиночки. Как будто хотел Бог помочь этим семьям. Не тронул своим пожаром другие, добротные дома. Ударом молнии уничтожил один дом, а когда побежали все его гасить, в другом конце поселка ударил по дому Залмана. Пока Давид, Ирина, дети добежали – огонь уже полыхал над крышей, ничего не успели вынести. Старый Залман, видя, как огонь уничтожает его дом, его пристанище, только шевелил побелевшими губами.
Так, возле пепелища дома, где жил Давид до войны, появилось второе пепелище. Недалеко от него Давид поставил новый сруб. Помогла страховка дома, которую сделал Залман, да помощь друзей и соседей. Все хотели помочь погорельцам. Давид нанял рабочих, взял старших сыновей, поехал с ними в лес. Корчевали деревья, обрубали сучья. Небритый, исхудавший, своими искалеченными руками он работал наравне со всеми. За несколько месяцев поставили сруб.
Казалось бы, маленькие дети, строительство, напряжение должны были бы повлиять на атмосферу семьи. Приехав после учебы из Минска, я застал семью в шалаше. Но все улыбались, все шутили, мать, как всегда, справлялась по хозяйству, отец подшучивал, а рядом кипела работа, строился дом.
И вот сейчас он стоит новый, свежий, в окружении белого сада – сада Давида.
- Маленькие дети, еще вытащат весь мох со стен, играются с ним мои хлопцы - подумал Давид. – А как и когда оштукатурить дом?
Послышались шаги.
- Ира, где Давыд? – басил Иван Рябцев, высокий, широкоплечий. Рядом с ним – Федор Воропаев.
- Ну что, ребята, сейчас выпьем или после парада? – заулыбался Давид.
- Сейчас мы начнем работать, так, Федя? – тоном заговорщика проговорил Ваня. – Будем тебе штукатурить хату, Давыд.
И закипела работа. Отец только бегал возле них, помогал.
- Хлопцы, а как же парад? Как парад?
- Давыд, это будет наш самый главный парад, - ответил ему улыбающийся Федор.
Друзья-фронтовики за день своими умелыми руками оштукатурили весь дом Давида, а к концу дня Ирина приготовила обильный ужин, пригласила друзей за стол. На спинках стульев висели, сверкая золотом, парадные костюмы с боевыми наградами. На столе дымилась горячая картошка, заправленная укропом, огурцы, закуска.
- За Победу! За дружбу! – поднимали рюмку за рюмкой друзья.
Это был самый удивительный парад фронтовиков, какой я только видел. Радостью светились лица.
- Хлопцы! Ребята! Друзья! – все повторял растроганный до слез Давид.
- Давыд, что ты говоришь? Хто нам дапамагае, як не ты? – улыбались друзья в ответ.
Дружба, которая связывала отца с местными фронтовиками, поражала всех – и белорусов, и евреев. Но Давид не видел в них белорусов, а они в нем не видели еврея. Они были братьями по духу, братьями, прошедшими через страшную войну. Они сидели вместе с Давидом за столом, смотрели на него с любовью своими добрыми крестьянскими глазами.
- Давыд, потребна хата. Старая уже маленькая, а дочки подрастают, – тоном просителя говорил Ваня Рябцев.
И не в кабинете районного начальника, а здесь, в доме простого еврея, решается судьба нового дома.
- Будет тебе, Федор, хата, будет, - уверенно говорит Давид. – Вот бумага, только подпишись.
А что писать и куда писать – Давид знает хорошо. Верная Ирина своим учительским почерком переписывает письмо, и просьба фронтовика уходит по нужному адресу. А через некоторое время прибегает Федор с радостью:
- Давыд, дали лес, начинаю строиться!
- Я спачатку быв партизаном,а потом на фронте, контузило, никаких документов няма а, может, дапамог бы с пенсией? – смотрит в глаза отца Федор Воропаев.
- В каком госпитале лежал? – молниеносно спрашивает отец. И, выслушав ответ, отвечает: - Будет тебе пенсия, Федя!
Я был свидетелем этих разговоров, был свидетелем, как обмывали первую пенсию Федора.
. Расходились поздно вечером.
- Давыд, не забудь, в следующую пятницу жду тебя в бане, - вставая со стула, проговорил Федор.
- Почему у тебя? Сейчас по очереди у меня! – вступил в спор Ваня.
Друзья топили бани и считали почетом увидеть у себя Давида, Иру, их сыновей.
Помню, как звонили, приглашали неоднократно и обижались, если вдруг отказывались по какой-то причине. Но чаще всего, приготовив бутылку, взяв под руку Ирину, Давид вышагивал с ней по Михалину. Все знали, куда и зачем они идут. Это была не просто баня, а баня с парилкой. А потом еще и праздничный стол. Обильная белорусская кухня, приготовленная руками Катерины Рябцевой, Надежды Воропаевой, была лучше, чем в любом столичном ресторане.
Много раз я присутствовал на таких торжествах, много раз я был свидетелем, как за столом решались многие жизненные вопросы:
- Давыд, мои дочки закончили школу, куда пойти дальш? – волнуется Федор. – Ты же сам знаешь, как они учатся с тройки на четверку....
- Но я знаю, где принимают без экзаменов! Будут операторами маслозавода. Согласен? – спрашивает отец у друга.
- Конечно! – улыбается Федор.
И одна за другой его дочери поступают в техническое училище и, закончив его, получают направление на завод. Через годы, работая на одном месте, они вырастут до руководителей участков.
Мой отец был для них и другом, и советчиком, и наставником, а они ему были верны, преданы во всем, до самого конца.
Я вспоминаю своего отца, и вижу его: большой лоб (за три дня не объедешь – все шутила мать), густые черные волосы, выразительные глаза, и улыбка – умная, все понимающая.
А когда умер Федя Воропаев, когда отец, потеряв боевого друга, тяжело переживая, зашел в его дом, все сидящие за столом на поминках поднялись, увидев отца.
- Это ж Давыд, тот самый Давыд, - говорили люди между собой, много раз слышав о хороших делах отца, но ни разу его не видев. – Сядай, Давыд, сядай, - уступали ему место в центре стола, возле родственников покойного.
Оказывали ему такой почет сельчане не случайно – для них этот единственный еврей на поминках был не случайным человеком, он был первым другом Федора.
Таким был наш отец...
Глава двадцать шестая. Если не Давид – то кто?
Вначале Зинка горько причитала…
- Ой, ой, дитятки мои, дитятки!
Потом тихо всхлипывала, закрыв заплаканное лицо большими красными руками. Растрепанная, в потертой шубейке, она все повторяла:
- Давид, скажы, што рабиць, што?
А Давид нервно ходил по комнате из угла в угол, слушая рассказ Зинки - так звали в Михалине Зинаиду Злобинскую, местную доярку. Была она женой Исаака Злобинского, боевого товарища Давида. Фронтовые ранения рано свели в могилу красавца-фронтовика. До последней минуты ухаживала Зинаида за мужем, облегчала его страдания, успев перед этим родить ему двух точь-в-точь таких же, как отец, горбоносых, смуглолицых сыновей. Любила она их преданно, самозабвенно, и за себя, и за своего мужа, который так рано оставил их.
- Ды аддай ты своих полужидков в детдом, лягчэй буде! – говорили ей доброхоты.
- Дак гэта ж мои дети, мои кровиночки! – не понимала людей Зинка.
Местные евреи ее особенно не жаловали. Каждый год у Зинки был новый примак. Любит выпить, матерится – такая, как есть. Это только помогало ей переносить все трудности. А белорусы давно уже перестали ее считать своей:
- Жыдовка! – только так и говорили про нее все соседи.
И только в нашем доме для Зинаиды были всегда открыты двери. И отец, и мать, да и мы – дети, любили ее за открытость души, за веселость, за неунывающий характер.
Вот и теперь, ворвавшись с криком, со слезами, она рассказала, что ее двое детей вместе с другими забрались в колхозный сад. Председатель колхоза, увидев это, оставив в покое других детей, вначале погнался за одним сыном Зинаиды, а потом – за другим…
Все разбежались, а местный царек, посадив детей в машину, избил их до крови, а потом выбросил на дорогу.
- Ты же ведаешь, чаго ен адпусцив усих, а только моих избив! Тольки из-за таго, што яны – дети Исака! – не переставала плакать Зинаида.
Это Давид понимал и сам. Боль и обиду этих детей он сейчас воспринимал, как свою.
- Ну что сделать, председатель колхоза! Когда за ним власть, райком, райисполком!
- Зина, может, сходишь в милицию? – вступила в разговор Ирина.
- Да кто ее будет там слушать? Даже на порог не пустят! – отмахнулся от этих слов Давид.
- Нет, но нужно что-то предпринять. Этого подлеца нужно наказать, это же не магазинный Федька, это - представитель власти, но у него такое же нутро, как у того бандюги. Только на посту и за рулем персональной машины.
Давид нервно ходил, ходил, никого не видя, никого не слушая. Потом вдруг, остановившись, сказал, сверкая глазами в бешенстве:
- Что же, сержанты еще стоят на посту!
И, обратившись к матери, попросил:
- Ира, возьми ручку и пиши все, что я тебе продиктую! Начинай: "Это было в Михалине…"
Когда письмо было написано, еще раз переписано и подписано корявым почерком Зинаиды Злобинской, отец сказал:
- Если на земле есть хоть один шанс, он будет наш.
И письмо было отправлено в Минск, в газету "Советская Белоруссия". Это было как раз во время хрущевской оттепели, когда народу разрешали что-то сказать, когда руководителей районных звеньев можно было наказать для урока другим. Вскоре в наш дом зашел высокий молодой парень, представившийся собкором "Советской Белоруссии". Радостно улыбаясь, Зинаида Злобинская сообщила, что он даже привез гостинец ее детям. Журналист из Минска очень долго разговаривал с моим отцом, в котором он нашел приятного собеседника и близкого по духу человека.
- Сможем – поможем, но вначале – разберемся, – пообещал нам столичный гость.
Я помню, как на четвертой странице газеты "Советская Белоруссия" на всю полосу был опубликован материал с названием, данным моим отцом: "Это было в Михалине". В нем слово в слово было приведено письмо, которое написала под диктовку моего отца Зинаида. А потом еще 5 газетных колонок рассказывали о самоуправстве местного самодура, который, занимая пост руководителя хозяйства, избил детей фронтовика.
Председатель колхоза быстро понял, кто помог Зинаиде, – ведь весь поселок с равнодушием отнесся к этому происшествию. Считанные евреи зависели от председателя. Другие – русские, белорусы – только посудачили об этом происшествии да назавтра его забыли. Да и боялись они всесильного хозяина округи.
- Только Давид Златкин мог такое придумать, только он! Но я доберусь до него! – негодовал председатель.
- Берегись, не ходи возле его дома, переходи на другую улицу! – просила отца мать.
- Я буду бояться? С каких это пор? – недоумевал отец. И как ходил, так и продолжал ходить каждое утро и вечер мимо председательского дома с гордо поднятой головой.
После такой разгромной статьи в районе не могли не принять меры - председателя сняли с работы.
Умение противостоять любым трудностям и выходить победителем в борьбе с самыми темными силами, было отличительной чертой характера нашего отца.
- Я никогда не плыву по течению, – утверждал он.
Если сталкивался с несправедливостью, с чужим горем, то всегда спешил на помощь, порой даже не очень хорошо зная тех, кто к нему обращался. Все знали – Давид не откажет, Давид всегда постарается помочь.
Но на этот раз беда пришла в наш дом.
- Батька (так, на белорусский манер называла отца наша мать, а за ней и все мы), меня снимают с работы, - почерневшая, переступила порог нашего дома, пройдя шесть километров пешком от школы, Ирина.
В школе, где работала мама, решили сократить количество начальных классов, и вместо трех третьих классов оставить два, а один, где поменьше количество учеников и успеваемость пониже, – расформировать. Все понимали, что учительнице, которая ведет данный класс, будет предложена другая работа, и вдруг, срочно созвав педсовет, директор школы сообщил:
- В класс Ирины Давыдовны переходит учительница А.И., класс которой расформирован.
Это было неожиданным для всех, и не только для Ирины.
- А я? – вначале робко возразила она.
- Милая моя, у вас все хорошо. Мы согласовали и определили вас воспитателем школы-интерната. Там и зарплата повыше, да и, кстати, эта школа – в городе. Ближе, чем к нам на три километра, так что все учтено, – закончил совещание директор.
Едва закончив уроки, Ирина напрямую, через сосновый лес, бросилась в школу-интернат. Уже радовалась, что, может быть, станет немного легче, если на какую-то копейку заработает больше, да и добираться будет намного проще. Но в школе-интернате ее быстро охладили.
- О какой работе идет разговор? Нам никто не нужен, штат укомплектован полностью, – объясняли уставшей, запыленной женщине.
Назавтра, думая всю ночь о работе, она постучала в кабинет директора, желая сообщить о том, что ее на новом месте никто не ждет...
- Меня это мало касается, приказ уже подписан о передаче вашего класса. Вы поступаете в распоряжение районо, я с себя всю ответственность снял, – глядя в сторону, заявил директор.
- Я с этим не согласна! - тихо, но твердо ответила Ирина.
Директор от неожиданности встал. Вот так номер! Всегда спокойная учительница, никогда не повышавшая голос ни в классе, ни на педсовете, оказывается, умеет протестовать.
- Не о чем разговаривать! Если моего мнения недостаточно – сейчас услышите мнение коллектива, – тешась своей властью над простой женщиной, заявил директор.
Собравшиеся учителя молчали. Они понимали, что некрасиво, не по-людски отбирать класс у учительницы, которая ведет его с первого дня. Но как пойти против воли директора? И не только его воли - кто-то нашептал ему свыше, как поступить в данной ситуации, у кого-то получил поддержку - иначе не вел бы себя так вызывающе. Муж А.И. работал на ликероводочном заводе – возможно, в этом и была вся причина.
Принимая молчание коллектива за согласие, руководитель школы резко напал на женщину:
- Встаньте, когда с вами разговаривает директор школы! Я вам сообщаю в последний раз – вы в этом классе не работаете! Или вам непонятен русский язык?! – с ударением на последних словах уже закричал "властелин" школы.
Все даже вздрогнули от такого крика. Ирина только побледнела и, сжав косточки рук до посинения, еще громче ответила:
- А я отвечаю, что я буду работать в этом классе. И не нужны мне намеки, я изъясняюсь на чистейшем русском языке, том самом, который преподаю.
Директор школы замахал руками, взяв в руки стакан воды – ситуация становилась неуправляемой. Молчание нарушил чей-то вскрик. Медленно привстав со стула и наклонившись, тихо-тихо сползла на пол А.И. – учительница, которую хотели перевести в чужой класс.
- Воды, врача! – закричали одни.
Другие набросились на бедную Ирину:
- Это все из-за вас!
- Симуляцию обморока вы уже увидели, а что будет дальше – еще увидите! – твердо проговорила Ирина, выходя из кабинета.
На негнущихся ногах едва доплелась до дома, пройдя шесть километров по пурге, и вот сейчас она бессильно опустилась на стул. В стороне – сумка с непроверенными тетрадками. Сейчас, дома, она уже не могла быть такой твердой, просто сидела и плакала. Давид понимал состояние жены. Для нее класс был не только источником заработка. Этот класс был для нее, можно сказать, шестым ребенком. Приехав из села Красавичи в город, она долго не могла найти себе работу, пока ей не дали место библиотекаря в школе. Школа была далеко от дома, но каждое утро, накормив детей, управившись по хозяйству, она мерила километры, и в дождь, и в снег, туда и обратно. Навела порядок в библиотеке, при необходимости всегда соглашалась на любую замену, на любой класс. И уроки русского, и уроки немецкого, и уроки математики – не считалась ни с чем. Заменяла всех, кто не вышел по болезни, кто находится в декретном отпуске, кто просто не смог прийти на работу.
- Ирина Давыдовна, не забывайте, вы – технический работник, нужно загрузить в подвал уголь, - приказывает директор.
Едва завершается урок, Ирина спешит на помощь техничкам. И так из месяца в месяц.
- Я никогда бы не поверил, что вы так орудуете лопатой, - восхищался директор.
- А вы бы посмотрели, как еще я орудую колуном, когда колю дрова, какие выпекаю хлеба, - не прерывая работы, говорила Ирина.
- Да, да, - только покачивал головой директор, не сомневаясь в правоте ее слов.
Прошел год, и когда в кабинете директора появилась незнакомая молодая девушка, директор школы уже знал, как ее встретить.
- Вас направили к нам на работу из районо? – поинтересовался он.
- Да, - ответила белокурая красавица.
- Но вы опоздали, - и, войдя в библиотеку, он сообщил:- Ирина Давыдовна, вы получаете первый класс. Вы заслужили это.
Можно было представить, какой радостью было наполнено тогда сердце Ирины. И вот теперь этот выстраданный, заработанный потом и мозолями класс переходит к другому человеку.
- Был бы прежний руководитель школы – он бы не допустил этого. А новенький директор хочет быть полезным тем, кто может быть полезным ему, – думала Ирина.
Давид слушал жену и не знал, что делать. В далеком сорок первом было тяжело, но там был реальный враг. Выстрелишь первым - останешься в живых. А здесь?
- Как быть? – как всегда в трудное время, рассуждал он. – У нас нет времени на оборону, есть время только на атаку.
Утром, облачившись в подшитые валенки и какую-то куртку, он вышел из дому. Болели руки – одна от осколков, вторая – после перелома на целине. Побаливало в области сердца – видно, подступают осколки.
"Не зря же врачи говорят, что у меня их более сотни, " – рассуждал Давид, протаптывая километры через сугробы.
Ехать пришлось в соседний город, где теперь находился промышленный райком двух районов. Вот туда, на прием к секретарю, и спешил Давид. Так вдруг решил, так подсказала внутренняя интуиция. Неожиданно для него в приемной никого не оказалось, ему разрешили войти в кабинет. Седовласый человек быстро взглянув на посетителя, заметил:
- У тебя есть несколько минут. Даже не знаю, как тебя пустили без предварительной записи.
Давид решил не клянчить, не просить – рассказал все быстро и по-военному четко.
- Фронтовик? – вдруг спросил секретарь.
- Да. С первого дня на войне, дважды был тяжело ранен. И ты фронтовик? – заметив орденские планки на груди собеседника, спросил Давид, вдруг перейдя с официального "вы" на "ты", по-фронтовому.
- Да, забрали в сорок третьем, – улыбнулся в ответ секретарь райкома.
- Повезло тебе. К этому времени я уже был весь в осколках, – говорил Давид, чувствуя, что сейчас самое время заговорить о цели своего визита, возможно сейчас, решится судьба не только его жены, но и всей семьи. Секретарь райкома молча выслушал рассказ Давида, глаза его вновь нахмурились.
- Ничего не могу обещать, езжай домой, разберемся, - Он уже знал об этом инциденте в школе, ему уже звонили из районо.
- На месте все уладим. Это бедная еврейская семья, нечего с ними возиться, – убеждали его по телефону из соседнего района.
- Бедная, да видно, гордая. Этот куда нужно дойдет. Его не остановишь, а потом я получу нагоняй, что обижена семья фронтовика, что уволена мать пятерых детей, - подумал секретарь.
- Да, сколько все же у тебя детей? – спросил он у Давида.
- Хотелось бы больше, да этих не дают прокормить, - отпарировал Давид.
- Так зачем разводить нищету? – попробовал было пошутить партийный начальник, – А потом обивать пороги?
- Я не нищету развожу, - опять пошел в атаку Давид. - Мои дети – лучшие ученики школы, – а потом добавил уже тише: - У меня вся семья расстреляна, вот я и восстанавливаю еврейский народ.
Утром, за несколько минут до звонка, в класс Ирины вошел директор школы, и прямо с порога, не доходя до стола, заговорил:
- Как я рад вас видеть в этом классе, Ирина Давыдовна! Было какое-то недоразумение. Это ваш класс, и никому другому мы его передавать не намерены.
И затем, перейдя с официального тона на шепот, нагнувшись к ней, спросил:
- Что же вы мне раньше не сообщили, что у вас есть такой влиятельный покровитель? Я даже не подозревал об этом.
Моя мать, Ирина Давыдовна Хенкина, выпустила не только этот класс, а проработала еще много-много лет в этой школе, откуда ее с почетом провожали на пенсию.
В нашем доме - многоголосом, радостном, шумном, всегда любили вспоминать различные семейные истории. Когда наша мать рассказывала о своих переживаниях, связанных с этим происшествием, отец, гордо выпрямившись, всегда говорил одно и то же:
- Ира, сержанты стоят на посту.
И заливался таким раскатистым смехом, каким только он мог смеяться. А мы, дети, радовались за их маленькие победы в этой большой, нелегкой жизни.
Глава двадцать седьмая. Я – еврей!
 Дождь, мелкий и острый, пронизывал все тело. Ноябрьский ветер гнал тучи по тусклому небу. Давид, не обращая внимания на непогоду, размашисто шел по раскисшей от дождя дороге.
Дождь, мелкий и острый, пронизывал все тело. Ноябрьский ветер гнал тучи по тусклому небу. Давид, не обращая внимания на непогоду, размашисто шел по раскисшей от дождя дороге.
Еще за несколько дней до того он приготовил старый плащ, шапку-ушанку. Старые раны, искалеченные руки прогнозировали наверняка ухудшение погоды.
- Вот по такой же дороге, таким же ноябрьским днем, гнали на смерть моих родных, всех евреев поселка, - эти мысли всегда одолевали Давида, особенно в ноябрьские дни.
- А был бы я чуток младше – был бы вместе с ними. Война им жизнь прервала, а мне – спасла. А может, было бы лучше сгинуть со всей семьей? Сколько мне еще мучиться, страдать?
Давид никому не изливал душу, на людях был разговорчивым, общительным, а как оставался сам с собой – не находил себе места.
- Я даже не знаю, где именно останки моей мамы, останки моих сестер. А я что? Выжил чудом, один из семьи. Остался только я и отец. Казалось бы, прошел войну, выжил в Катастрофе, должен жить за себя и за всех уничтоженных, так нет!
Давид никогда ничего не просил для себя - только хоть какую-нибудь работу, где могли пригодиться его израненные руки. На предприятиях города инвалид был не нужен, в военкомате отнекивались: "Ты свое отвоевал? Отвоевал. У нас к тебе претензий нет. А насчет помощи в работе – в райсобес".
В райсобесе тоже отворачивались: "Пенсию даем? Даем. А на большее не рассчитывай".
И Давид вновь брал треножку с фотоаппаратом и забирался в самые глухие деревни района. Бывало, садился на автобус, который подвозил его до центральной усадьбы колхоза или совхоза, а потом уже пешком, со всем оборудованием, тяжело брел от деревни к деревне, от дома к дому, километр за километром. Сельчане уже ждали его, порой даже выстраивалась очередь.
Я уверен, что еще и сегодня во многих белорусских семьях хранятся фотоснимки, сделанные в пятидесятых-шестидесятых годах руками моего отца. Они давно уже стали реликвиями.
Но этот заработок был сезонным, в основном летом, да и то, не каждый день. А дома – пятеро, вечно голодных мальчуганов. Жена Ирина делала все, что могла – и в школе работала, и по хозяйству, да еще большой сад, и огород. Времени заглядывать в израненную вечными переживаниями душу Давида у Ирины, какой бы двужильной она ни была, не было ни сил, ни времени.
Единственная радость и гордость Давида – дети.
- Мои сыновья, - говорил он, любуясь каждым из них. – Подрастают мои мальчики.
Ради них стоило жить, превозмогая боль, бороться с трудностями повседневной жизни и терпеть, терпеть, терпеть...
И вот, наконец, улыбнулось ему, как принято говорить, еврейское счастье.
Из области пришла разнарядка – на местном быткомбинате потребовался переплетчик. Главный бухгалтер и главный инженер – евреи. А тут на пороге – усталый, заросший Давид, готовый на любую работу. И мгновенно, оба начальника решили, что они просто обязаны помочь своему соплеменнику, тем более, что директор завода временно отсутствовал, так что разрешения его не потребовалось.
Давид повеселел, стал уже строить планы, что купить с первой зарплаты, что со второй… Утром он уходил на предприятие со своим станком и, переплетая бухгалтерские документы, находил все новые и новые заказы для работы. Находил сам, по телефону, при личных встречах. Львиную долю получал быткомбинат, а сам Давид – крохи, но и эти крохи мозолили глаза директору завода – не мог он стерпеть, что нового рабочего, да еще еврея, приняли в обход него.
Постоянно, при встречах с Давидом, он отпускал в его адрес резкости, старался всячески его унизить. Директору не нравился свободный нрав нового переплетчика, который даже шапку не снимал при встрече с начальством. Подхалимов вокруг было предостаточно, они-то и стали нашептывать директору:
- Смотри, скоро и другие рабочие перестанут тебя бояться, твоя власть закончится.
Директор не мог успокоиться:
- Взяли на мою голову! – орал он на своих заместителей.
- А что он вам делает плохого? Дает выработку больше, чем любой цех, – пробовал защитить Давида главный бухгалтер, но все было безуспешно.
Давид чувствовал, что он приближается к той красной черте, за которой его начинает охватывать бешенство, холодеют руки, а мозг дает команду: "Вперед!", как раньше, в бою.
Бредя по осенней дороге, он не замечал дождя. Мыслями он был там, в ноябре 1941 года.
- Что думала моя мать, что думали мои братья и сестры, идя в последний путь? – вопрошал Давид. – Не переживай, мама, я не сдамся, - вымолвил он про себя эти слова, переносясь из прошлого в настоящее. Решение пришло мгновенно...
Вот и проходная. Как всегда возле нее – много людей. Возле ворот – сам директор. "С чего бы это?" – подумал Давид, не сворачивая в сторону.
- Куда спешишь, еврейчик? – вдруг услышал за спиной зловещий голос директора.
Давид понял – схватки не избежать.
Люди, которые столпились около проходной, замерли. Теперь Давида ничто не могло остановить. Не понимая и не думая о последствиях, видел перед собой только крысиное лицо врага, пылавшее ярой ненавистью. Нагнувшись, Давид схватил подвернувшийся под руку булыжник.
- Пикни слово – твоя голова превратится в кашу! – чеканя каждое слово, медленно говорил Давид, наступая на руководителя предприятия.
Тот не ожидал такой наглости от простого рабочего, да еще от еврея.
- У меня есть справка о контузии, и мне ничего не будет, если я тебя уничтожу. Замри, гадина! – еле сдерживался Давид, чтобы не врезать в ненавистную морду. Подошел к проходной, и, открыв дверь, громко закричал:
- Ты думаешь, ты здесь хозяин? Ты ошибаешься! Они, эти рабочие – хозяева. А ты - ты знаешь, кто? Забыл? Напомню.
- Не нужно, Давыд. Погорячились оба, – директор уже почувствовал надвигающуюся опасность.
- Нет, нужно. Пусть все знают – в то время как такие, как я, проливали свою кровь на войне, твоя семья прислуживала немцам.
Об этом знали многие, не раз переговаривались тихо между собой из какой семьи директор, но чтобы так, в открытую, в шестидесятые годы, когда уже не так свежа была память о войне, сказать во весь голос? Это было опасно, ведь директор завода связан со всей местной властью. Одному - путевку за счет предприятия, другому – рабочих, чтобы благоустроили особняки местной знати. Все повязаны - и райком, и милиция, и КГБ.
Но с того дня директор поблек, будто стал меньше ростом, люди перестали перед ним заискивать. А вскоре его перевели на другое место работы, как потерявшего уважение коллектива.
А что было потом?
Наш отец до самого отъезда в Израиль продолжал спокойно работать переплетчиком на этом заводе. Выйдя на пенсию, он до 67 лет не выпускал из рук свой переплетный станок, и даже в Израиль привез свои большие переплетные ножницы.
Глава двадцать восьмая. Солдатская мать
Пролетели годы... Выросли сыновья... И на долгие двадцать лет Ирина стала солдатской матерью, провожающей и встречающей сыновей...
 За окном вагона проносились села, белоствольные леса и зеленые поля, но Ирина глядела на все из окна вагона, будто в тумане. Мыслями она все еще была там, в Бресте, где продолжал службу ее старший сын. Коротко подстриженный, худенький, он будто вынырнул из-под земли на проходной части, куда она обратилась. Какой-то незнакомый, чужой, в солдатской гимнастерке, только изредка улыбка озаряла его лицо, по которой мать и узнавала сына. Короткие две встречи, и все…
За окном вагона проносились села, белоствольные леса и зеленые поля, но Ирина глядела на все из окна вагона, будто в тумане. Мыслями она все еще была там, в Бресте, где продолжал службу ее старший сын. Коротко подстриженный, худенький, он будто вынырнул из-под земли на проходной части, куда она обратилась. Какой-то незнакомый, чужой, в солдатской гимнастерке, только изредка улыбка озаряла его лицо, по которой мать и узнавала сына. Короткие две встречи, и все…
Впервые за два года – и снова год в ожидании. Понимала, что ничего нельзя изменить. Пройдет еще год, и вернется сын домой – повзрослевший, совсем уже другой – комсорг батареи, офицер запаса.
- Даже не верю, что сумел пережить все то, что со мной случилось, - скажет потом дома.
В ракетной части, среди более 1000 солдат, евреев были единицы. Сыновья фронтовиков из центральной России, Сибири и Урала, как и их отцы, были прекрасными друзьями, чуждыми антисемитизму.
Однако этого нельзя было сказать про некоторых призывников из Западной Украины и Белоруссии.
- Где здесь еврей? Никогда не видел, - все заскакивал ко мне в отсек бывший житель Львовской области.
Да разве только он один? Наследники бандеровцев, бывших полицейских, спали рядом со мной в одном кубрике, сидели за одним столом. Я чувствовал их враждебность. И с ними нужно было идти в караул, вместе быть на учениях, не спуская палец с автомата.
Все это еще предстояло услышать матери, а сейчас сердце ее разрывалось на части, совсем, как тогда, когда темной ночью перевозила своих детей из деревни в город.
- Мама, мама, успокойся, тебе ведь еще за меня придется плакать, - подошел к ней Сергей.
- За тебя? – подняла на него глаза мать.
- За меня, - бросил он в ответ.
Пройдет еще несколько лет, и Сергей – студент вечернего отделения Куйбышевского авиационного института, уйдет в армию.
- У нас – военная кафедра только для студентов дневного факультета, а ты готовься служить, - жестко сказали в военкомате.
А ровно через два года промелькнула за окном солдатская серая шинель. Сергей домой вернулся старшиной роты.
- Сынок, как долго я тебя ждала!..
- А меня ты готовишься ожидать? – подошел к ней следующий сын, Григорий.
И снова проводы, третьи проводы.
Григорий, самый мягкий из детей, казалось, вовсе не пригоден к солдатской службе, но и он возвращается домой в чине старшего сержанта.
Только отпразднуют встречу – и снова новые проводы.
Пришло время служить и самому младшему – Льву, его направляют в учебное подразделение. И вновь, как и прежде, она через пятнадцать лет мчится через всю Россию в Подмосковье, на встречу с сыном.
И вот он уже выходит ей навстречу - уверенной походкой, в длинной шинели с сержантскими нашивками, улыбаясь одними глазами. Командир роты, который пришел в гости к матери своего сержанта, рассказывает:
- Мы готовим командиров отделения, и как трудно им объяснить, что нужно защищать небо. Говорим: "Самолет вторгается в пределы Москвы, ваши действия?" Никаких действий со стороны призывников с Кавказа – нашего нового пополнения. Что делает Лев?
- Представь, что самолет летит все ближе к твоему дому. В этом доме – твоя мать, твои родные. Предпринимай, ищи мишень! – объясняет он своим подчиненным. И вот результат – на учениях они показали совсем иную подготовку, чем раньше.
- Поэтому Льва мы оставили здесь инструктором. А, может, он останется здесь навсегда? – шутит капитан.
Мать возвращается домой после встречи с младшим сыном и начинаются долгие дни ожидания. Ждет его демобилизации, считает день за днем, отмечает в календаре вместе с внучкой Женей.
А на очереди – новые проводы. Заскочил домой на день попрощаться с матерью Яков. Казалось бы, уж его-то минует служба. Но нет, его - выпускника Куйбышевского авиационного института, отца двух детей, призывают на службу замполитом роты. Правда, жена Генриетта помогает матери ждать сына, но разве ей от этого легче?
 Почти двадцать лет Ирина – мать солдатская (так называл ее отец) провожала, встречала, ждала своих сыновей. В морозные ночи, она всегда выходила на улицу. И чем холодней была ночь, тем дольше там оставалась.
Почти двадцать лет Ирина – мать солдатская (так называл ее отец) провожала, встречала, ждала своих сыновей. В морозные ночи, она всегда выходила на улицу. И чем холодней была ночь, тем дольше там оставалась.
– Что это с тобой? – дивился муж.
- Ты что, не понимаешь? – отвечала мать. – Мои сыновья в это время стоят на посту. Вот я им будто бы и помогаю.
Ушло в далекое прошлое то солдатское время. Но разве можно забыть письма отца, матери, ее поездки через всю Белоруссию, через всю Россию?
Глава двадцать девятая. Не Ира – Июська
 Солнце разлилось над Михалином, хотя в тени августовского сада жара ощущалась чуть меньше. Вишневые деревья опустили ветви под тяжестью спелых плодов. Славно уродились в нынешнем году грушевые деревья, радует глаз сливовая плантация. А какие яблони – всех сортов! Посредине этого великолепия желтеют головки укропа, лука, а чуть дальше – громадное поле с картофелем....
Солнце разлилось над Михалином, хотя в тени августовского сада жара ощущалась чуть меньше. Вишневые деревья опустили ветви под тяжестью спелых плодов. Славно уродились в нынешнем году грушевые деревья, радует глаз сливовая плантация. А какие яблони – всех сортов! Посредине этого великолепия желтеют головки укропа, лука, а чуть дальше – громадное поле с картофелем....
- Сынок, может, подумаешь? Куда в белый свет, как в копейку? – подняла на меня свои тревожные глаза мама. – Батька еще не все понимает. Побыл, посмотрел, и ты туда же?
Отец – вечный романтик, искатель другой жизни для себя и для своих детей – только что вернулся с калининградского побережья, был очарован этим новым российским краем, до войны принадлежавшем Германии. Даже добрался до обкома партии, где ему коротко ответили: "Да, нам нужны сотрудники в областные газеты".
- Ты же журналист, коммунист, офицер, что ты ждешь? Здесь в Белоруссии будешь прозябать, как я, - все наступал на меня отец.
Вот я и решил. Съездил, посмотрел, обернулся за три дня. Меня уже ждала работа в бывшем немецком городе Фридланде, на берегу удивительной реки Лава. Жену – выпускницу университета – тоже ждала работа в местной школе, где когда-то учились немецкие ребята. Я был очарован этим городом с красными черепичными крышами, цветниками, клумбами, дорогами, Балтийским морем, обилием рыбы в магазинах.
Думал ли отец, воюя с немцами, что когда-нибудь будет так горячо убеждать меня, своего сына, оставить родной дом и переехать в поисках лучшей доли на бывшие немецкие земли.
- Мама, меня уже ждут, я ведь дал слово, все решено, - обнял я ее за плечи.
И вот – утро расставания. Я и моя жена Аня взяли в руки чемоданы. Сердце щемит – здесь пока остается наша восьмимесячная дочурка.
- Не волнуйтесь, за девочкой я присмотрю, все будет хорошо, как только сами устроитесь на новом месте, так и дочку заберете, - успокоила нас мать.
Не думаю, что я бы так легко оставил своего ребенка на кого-то другого. Но я хорошо знал свою мать. Я надеялся на нее даже больше, чем на самого себя.
Новый край, конечно, нас захватил. В комнатке интерната местной средней школы, куда нас сначала устроили, мы прожили всего полгода, а затем получили квартиру в новом доме.
Отец всегда принимал принципиально правильное решение, и всегда от него можно было ждать неожиданностей, которые другой человек просто не мог совершить.
Где бы отец ни был, он всегда думал о том, как помочь детям, как улучшить их жизнь.
Как-то приехав в Зеленоградск Калининградской области, он полюбил Балтийское море, этот новый российский край. Знал, что только женившись, я жил в одном городе, а жена – в другом, квартира нам не светила. И он сам, без моей просьбы, добрался из Зеленоградска до Калининграда, где пешком, где на автобусе, добрался до обкома партии, прорвался к заведующему сектором печати. Мало того, вернувшись домой, он убедил меня поехать туда – ради интереса, тем более, что мне нечего было терять, я приехал в Калининград, переступил порог кабинета заведующего сектором печати. И увидел человека, который шагнул ко мне навстречу, протягивая руки. Шагнул, как самый близкий родственник.
- У меня был ваш отец, - с уважением заметил аппаратчик. – Спасибо, что приехали. Вам - на выбор любой город.
Я выбрал Правдинск – бывший немецкий Фридланд. Через 3 месяца на новом месте, я с женой получил квартиру в новом доме.
- Откуда у тебя такие связи сверху? – недоумевали новые друзья-газетчики, в райкоме партии.
Я даже не знал, что говорить: правду или что-то выдумать. Сказал правду. За столом, когда справляли новоселье, долго-долго смеялись:
- Ну и шутник ты, Ефим! Только ты мог придумать такое!
Но целый год моя мама была как часовой на посту, оберегая нашего ребенка.
Наступил сентябрь, и сразу же похолодало.
Давид, как всегда, спешил на работу.
- Женечка, скажи "А", - говорит Ира, продолжая что-то делать на кухне.
- А-А-А, - отвечает ребенок.
Стоит только Ирине посмотреть в гостиную, где в окружении одеял и подушек играет ребенок, как их глаза сразу же встречаются. Чем бы бабушка ни занималась, где бы ни была, постоянно чувствует, что за ней следит малышка. А она – за ней.
И вдруг в тишине… топ-топ-топ.
- Я осторожно выглянула из кухни, и вижу – пошла, пошла моя девочка. Я, чтобы не испугать, тихонько иду сзади, чтобы поддержать, чтобы не упала, - рассказывала потом бабушка.
Сохранилась фотография: идет наша малышка, переваливаясь с ноги на ногу, а сзади наготове – натруженные руки бабушки.
Она любит всех своих внуков, а их у Ирины десять. Но, к Жене привязана особенно, все-таки первая девочка в семье. Когда одного за другим рожала своих сыновей, то всегда спрашивала: "Кто у меня?". И всегда был ответ – "Мужик".
А мать так хотела девочку, мечтала, чтобы у нее была помощница! И разве есть разница, дочь это или внучка?
- Я боялась только одного – чтобы ребенок не ударился. Мало ли что могло быть? Одни мои знакомые оставили ребенка родителям здоровым. Приехали – больной после падения. И не просто больной, а инвалид, жизнь которого продолжалась в каком-то закрытом интернате. Какое это несчастье! – не раз говорила Ирина своим соседям. И все время как будто сама себе давала наказ: за ребенком глаз да глаз, глаз да глаз!
В доме, как у всех, русская печь. На печь ребенка – ни за что, ведь очень высоко! На кровати и на диване одну не оставлять, только в кроватке, закрытой со всех сторон.
 У хозяйки всегда много дел: каждое утро мама спешила к своим любимцам – козам. И каждое утро, усадив ребенка в коляску, вперед по дорожке к сараю. Назад – в одной руке коляска, во второй – банка с молоком. Нужно покормить другую живность – в одной руке коляска, во второй - корм. Нужно сходить за водой к колодцу: в одной руке коляска, во второй – наполненное водой ведро. Нужно принести дрова – в одной руке топливо, во второй – коляска.
У хозяйки всегда много дел: каждое утро мама спешила к своим любимцам – козам. И каждое утро, усадив ребенка в коляску, вперед по дорожке к сараю. Назад – в одной руке коляска, во второй – банка с молоком. Нужно покормить другую живность – в одной руке коляска, во второй - корм. Нужно сходить за водой к колодцу: в одной руке коляска, во второй – наполненное водой ведро. Нужно принести дрова – в одной руке топливо, во второй – коляска.
Сама недосыпала, но берегла сон ребенка. Все самое вкусное, естественно, малышке. Уже став взрослой, Женя продолжала звать свою бабушку тем далеким именем "Июська" – так она лепетала, уже крошкой всем своим сердцем отвечая на любовь и заботу нашей мамы. Машина останавливается возле палисадника. Из далекого Калининграда приехала в Белоруссию за своей дочерью Аня. И она, и бабушка чувствовали, что девочку, так привязанную к ней и к ее дому, не так будет легко забрать. Ничего не помогало - ни уговоры, что нужно ехать, ни обещание что-то купить в подарок. В полтора года с небольшим она все прекрасно понимала и отвечала коротко "нет". Когда подошли к машине, ребенка быстро подали в окно…
А Ирина просто слегла. Несколько дней ни с кем не разговаривала – так они были привязаны друг к другу. А наша малышка, приехав в Калининград, конечно же, не могла забыть свою бабушку. Каждый вечер, придя из садика, она надевала большие сапоги, брала в руки большую сумку, и, стуча громко в дверь, объявляла: "Здравствуйте, я Июська!"
И так – каждый вечер. А потом брала в руки бумагу и карандаш и что-то писала. Естественно, это было письмо в далекую Белоруссию, к бабушке. И бабушка примчалась за тридевять земель, к нам, к своей внучке. Сохранилась старая фотография, где наша мама в тоненьком плаще стоит возле детской коляски, из которой выглядывают счастливые глаза малышки.
Сегодня у нашей дочери - уже своя дочь Лея. Она – "сабра", родилась в Израиле, вроде сентиментальности поменьше, но и у нее к прабабушке громадная любовь.
- Ефим, Ефим, срочно открывай двери! Ире плохо – я звоню, звоню, а она не открывает. Хотела уже перескочить через забор, - говорит она, а сама – в туфлях на каблуках, в нарядном платье.
 У бабушки Ирины – громадное богатство: дети, внуки, правнуки. Из далекой Канады постоянно звонит ей Эльвира – дочь Якова. Как только примчится в Израиль, сразу же – к бабушке со своими детьми.
У бабушки Ирины – громадное богатство: дети, внуки, правнуки. Из далекой Канады постоянно звонит ей Эльвира – дочь Якова. Как только примчится в Израиль, сразу же – к бабушке со своими детьми.
Из Австралии – звонки за звонками от Софы, дочери того самого Григория, руку которого она не отпускала всю дорогу во время ночной поездки из Красавич в Климовичи. Она уже не дождется того дня, когда даст своей бабушке подержать в руках еще одного внука - ему только что исполнился год. А самый младший - живет вместе с родителями в Испании - ему только четыре месяца.
Частые гости – сын Сергей с внуком, внук Дима уже со своим сыном, с дочерью- малышкой.
А недавно внучка Мира, в прошлом жительница Тбилиси, пришла к бабушке в окружении двух сыновей, а коляске – только-только родившаяся девочка.
Все навещают бабушку.
Правнуки Йонатан и Беньямин, сыновья той самой малышки Жени, живут рядом. И они уже по привычке, только приоткрыв дверь, сразу же бегут мимо меня, мимо моей жены.
- Где Ира, где? Все нормально с ней? – живо интересуются они, а потом уже подходят к нам. Мы только улыбаемся.
Материнское сердце, полное любви ко всем, получает такую же любовь взамен. Не только дети – племянницы и племянники постоянно на телефонной линии. Для них она как была, так и есть – тетя Ира с вечно улыбающимися глазами.
Глава тридцатая. Телеграмма в "Советише Геймланд"
Телеграфистка несколько раз перечитала телеграмму, медленно шевеля губами, потом перевела вопросительный взгляд на Давида.
- Так и отправлять? "Сообщаю, что в небольшом белорусском городе Климовичи на ваш журнал подписалось несколько десятков еврейских семей. Поздравляю с победой".
- А что здесь такого? Обычная телеграмма, – спокойно ответил Давид, стараясь не выдать волнения – а вдруг не пропустят?
- Я должна посоветоваться с начальством, - засомневалась телеграфистка.
Начальник отдела связи смотрел то в телеграмму, то в окно, где на стене соседнего здания красовался огромный плакат: "Перестройка шагает по стране!" Времена наступали новые, не сразу разберешь, что можно, а что нельзя. Раньше погнал бы этого "активиста" куда подальше с его еврейским журналом, а теперь и в Израиль, и в Америку дорога открыта, все разрешено – ГЛАСНОСТЬ!
- Да ничего мне не будет за эту телеграмму! – решил про себя районный начальник.
Давид возвращался домой, ощущая себя победителем. Конечно, он понимал, что "Советише Геймланд" издавался под неусыпным оком КГБ в Москве, а вовсе не в еврейской автономной области и был карманным, просоветским изданием. Но он был на языке идиш! Для моего отца, живущего в маленьком белорусском городке, где все меньше и меньше ощущался еврейский дух, одного этого было достаточно.
Этот поступок дал ему возможность почувствовать себя хоть как-то причастным к тем событиям, которые происходили в том мире, где были бунтари и крушители СИСТЕМЫ. Мой отец всегда ощущал себя именно таким – смелым, бесстрашным, живи он в другое время и в другом месте, возможно, из него вышел бы хороший организатор, генератор новых идей - но не сложилось, война все перечеркнула.
Еврейство для него было не лозунгом, не бахвальством – он никогда не скрывал своего происхождения, напротив, оно давало ему силы преодолевать все те тяготы жизни, которые выпали на его долю.
Отец собирал все подшивки журнала на идиш, пачками получаемые из Москвы, умело их переплетал, перечитывал до корки. Уезжая на лечение в госпиталь инвалидов войны или в санаторий, обязательно захватывал с собой "Советише Геймланд".
- Этот журнал для меня – как барометр, как красная тряпка для антисемитов. Видя меня, они закипали, а настоящие боевые друзья открывались сразу, - говорил нам отец.
Вспоминаю, сколько почтовых открыток с поздравлениями получал отец ко Дню Победы.
"Дорогой Давид, всего хорошего тебе и твоей семье!" – писали ему новые друзья из Риги, из Минска, из русских и белорусских сел.
В свою очередь, отец отправлял не десятки, а сотни посланий.
"Дорогой Ваня", "Дорогой Соломон, Степан, Кузьма!" – писал он своим размашистым почерком, поздравляя ветеранов войны с праздником, нередко с открытками отправлял и маленькие бандероли.
- Понимаешь, у моего нового друга есть проблема со здоровьем. Я обещал ему отправить хорошее лекарство, у меня же есть такая возможность, - объясняет нам отец.
- Наверное, как еврей еврею хочешь помочь? – шучу в ответ.
- Гор, - спорит отец. - На идише это "с чего бы вдруг?" – Я отправляю бандероль своему белорусскому другу Ивану Ивановичу из Минской области!
Еврейский журнал помогал моему отцу находить новых друзей, и не только среди фронтовиков. Заметив в одном из номеров "Советише Геймланд" стихи молодого русского поэта Александра Белоусова из Куйбышева, завязал с ним переписку. Отец был поражен, удивлен:
– Русский парень изучил идиш, а вы, евреи, отворачиваетесь от своего языка! – стыдил он нас. Особенно наседал на меня.
- Ты журналист, владеешь русским и белорусским языками, пишешь на них, а связать пару слов на идиш не можешь!
А встреча с Александром Белоусовым состоялось в Иерусалиме, через много лет, когда он, женившись на еврейке, переехал жить в Израиль.
Среди многих гостей, которых пригласил Давид на свадьбу своей старшей внучки Евгении, был и Александр Белоусов. Я помню как они смотрели друг на друга после стольких лет заочной дружбы, как не могли все окончить свой разговор. Казалось бы, что общего между известным в своих кругах литератором Белоусовым и простым евреем из белорусской глубинки? Я знаю что.
Отец в своих письмах всегда поддерживал Александра, восхищался им, когда он был еще школьником. Это придавало пареньку уверенность в себе, заставляло идти дальше в изучении иврита, идиша, в литературной деятельности. Это и привело русского парня по рождению в Израиль, в его Израиль. Александр Белоусов стал евреем больше, чем другой любой еврей,- говорил отец.
Отец не только сам интересовался всем, что, так или иначе было связано с еврейской темой, но старался и у своих местных друзей и соседей пробудить интерес к еврейской жизни. Но евреи небольшого городка были разобщены, после войны страх продолжал жить в душах людей маленьких городов и сел Белоруссии, слишком тяжелая травма была им нанесена, всему их жизненному укладу. Для большинства спокойнее было раствориться среди всех, никак не проявляя свое еврейство.
Однако ветер перестройки долетел и до нашего маленького городка, люди постепенно стали соглашаться взять и прочитать журнал, газету на идиш. На Давида уже не смотрели как на белую ворону. Но отцу этого было мало – он нашел дело для души, стал добровольным распространителем еврейского журнала, порой даже оплачивал подписку для тех, кто нуждался в деньгах.
- Нет денег? Хорошо, я заплачу за тебя, только подпишись, - говорил он одним. Другие оплачивали частично, но Давид был и этим доволен. Ему казалось, что он несет свет еврейской культуры в народ, пусть только в маленьком городке, пусть только единицам, сдавшимся под напором убежденного в своей правоте нашего отца, но это было для него ПОСТУПКОМ, это было его призванием – вести за собой людей.
Непоседа, вечно наполненный новыми идеями, он постоянно сам себе находил новое занятие для души.
Глава тридцать первая. Исход...
Давид лежал с открытыми глазами, переводил взгляд с одной голой стены на другую, из комнаты в комнату. Дом опустел. Все, что можно было, продали за бесценок, а в основном – роздали родственникам и знакомым.
- Не нужно продавать дом, оставьте все, как есть, - спорил с домашними Давид. Ему казалось, что все теперь не имеет никакого значения – главное, что они, наконец, обретают право жить в своей стране, столь долгожданной и неведомой.
В последние дни вдруг нашелся покупатель, и Давид, скрепя сердце, все-таки согласился на продажу дома. И вот теперь, уже в чужом по праву доме, он проводит последнюю ночь. Дети – далеко-далеко... Уже давно двое его сыновей Григорий и Сергей с семьями с нетерпением ждут встречи в Израиле. Собирает чемоданы пятый сын – Лев. В подготовке – второй сын Яков. Готовится сразу же после службы в армии старший внук – Игорь. А завтра выезжает с ним семья старшего сына Ефима.
- Да, большая семья, но все далеко - подумал Давид, подходя к окну. Небо было чистым, светлым, наступало утро 6 ноября 1990 года.
Михалин просыпался. Над каминами домов заструились черные ленты дыма. Послышались голоса людей, начинался обычный трудовой день. Обычный день для всех – но не для Давида.
Именно 6 ноября в том страшном 41-м его мать, сестер и братьев повели из родного дома на смерть, а сейчас, день в день, он покидает не только родные стены – покидает ту прошлую тяжелую, порой беспросветную жизнь. Но как забыть, как вырвать из сердца ту незатихающую с годами боль?
В Климовичи после великой бойни вернулось несколько десятков евреев. Они все понимали друг друга с полуслова, но особенно Давиду были близки по духу Марк Лейтус, директор первой довоенной еврейской школы и знаток идиша Казачков.
Помню, как-то в 80-е годы в нашу городскую газету зашел остроносый человек с седыми висками. «Григорий Релес из Минска» - этих слов было достаточно, чтобы я обратил на него внимание. Еврейский писатель из Минска, пишущий на языке идиш, чуть ли не единственный, кто выжил во времена сталинских репрессий.
- Как он сумел спастись? – все удивлялся отец.
- Очень просто. Ушел из литературы, стал преподавателем школы, а все, что писал – для себя, - рассказывал Григорий Релес, сидя за столом в нашем майском саду. Разговор шел на равных, мой отец и известный писатель были даже чем-то похожи друг на друга.
- После такой войны мы опять стали бояться себя. Ты же из столицы, скажи, объясни, почему даже слово «синагога» стало оскорбительным словом? – наседал на гостя отец.
- Давид, Давид, все мы – давно на кладбище. Еврейские поэты уничтожены, книги их никто не читает. Да и читатели – только мы с тобой, люди нашего поколения, - горестно кивал головой столичный писатель.
Но отец не отставал, задавал другие вопросы, и их было так много, что Григорий Реклес не мог скрыть своего удивления:
- Я все же из Минска, информации получаю предостаточно, но откуда ты, живя в маленьком поселке, так много знаешь?
- Да он же с книгами ложится, с книгами встает, - шутила, подавая на стол угощение, Ирина.
Казалось, что еврейская жизнь воспрянет после войны, возродится. Да где там... Стало больше молодых еврейских лиц, но своего еврейства они боялись, как огня. Утрата языка идиш была равносильна утрате еврейской души.
Никто и не заметил, как два немолодых человека, последние из евреев поселка, взяв в руки дорожные сумки, вышли из дому. Давид ясно понимал, что ему уже не суждено когда-нибудь сюда вернуться. Прожито 67 лет. Что ждет их впереди - неизвестно. Но рядом с ним была его верная Ирина, и поэтому он смело шагал навстречу новой жизни.
Летом 1989 года все мы пятеро собрались в родном саду. Из Тбилиси, Сухуми, Перми, Рославля примчались сыновья – радость и гордость родителей. Страна переживала непонятно что, за столом в яблоневом саду спорили до хрипоты, что будет дальше с перестройкой, со страной. Отец слушал-слушал, да и изрек:
- Смотрю я на вас, все умные-грамотные, кого только нет среди вас: и учителя, и врачи, и журналисты, и инженеры. Одно не можете понять, что не о том говорите, не о той стране думаете.
- Э-эх, старая пластинка, - отмахнулся один. Но второй поддержал отца, третий посмотрел одобрительно в его сторону. На лице отца засияла улыбка.
- Вижу, лед тронулся, - засмеялся он громко, во весь голос.
Расставались странно, ничего не было понятно.
- В будущем году в Иерусалиме, - шутили мы, братья. Но это еще был только разговор, стихийный, неосознанный, без всякой информации. Но уже не было уверенности, что еще раз соберемся здесь, в доме отца и матери.
Прошло полгода, и вновь растревожил звонок из Тбилиси.
- Завтра улетаем в Израиль, - пробасил Григорий.
- Как завтра, сынок, что ты надумал?- заплакала мать.
Еще через полгода заскочил повидаться перед отлетом в Тель-Авив и Сергей. Прошло еще полгода, и уже очередь Давида с Ириной и его старшего сына с семьей.
- Тук-тук-тук, - стучат каблуки ботинок по мерзлой земле. А Давиду слышится звук множества шагов, идущих с ним. Или он идет с ними? Тот же день 6 ноября... Перемешался с годом – 1990 с 1941, 1941 с 1990...
Он идет по той же дороге, по которой гнали семью на расстрел, идет в последний в своей жизни раз. Виски стучат, голова раскалывается от какой-то внутренней боли. Давид ничего не может сделать с собой, он понимает, что должен сойти с этой дороги, уйти дальше, туда, где ждут его сыновья, но ноги почти не идут, как будто примерзли к дороге. «Мама, мама, прощай!» - шепчут его побелевшие губы, как тогда, в 41-м...
Я покидал свой город на один день позже. Утром по телефону, ответил чужой голос. Здесь уже ничего не удерживало. Но было еще два места, которые не мог не навестить – могилу деда и памятник расстрелянным евреям, где растут в городе самые высокие деревья. Столетний парк напротив городской газеты, которой я отдал много лет, местная достопримечательность – красивое здание церкви, которая, естественно, меня не манила – все это оставалось уже вчерашним днем. А еще через день наш поезд пересекал просторы Белоруссии. Впереди была Москва. Ну, а дальше... дальше нас ждал Израиль. Среди сотен пассажиров, видимо, более радостного, чем отец, не было никого.
Глава тридцать вторая. Восхождение
 Самолет взмыл над Шереметьевым, над заснеженными полями Подмосковья. Много лет назад раненый восемнадцатилетний курсант Давид Златкин здесь умирал в снегах, замерзал и оживал, снова умирал от холода и боли и снова оживал. Вот и сейчас здесь, над этими заснеженными полями, он будто видел себя со стороны, понимая, что навсегда прощается со своей боевой юностью, со своей прежней жизнью.
Самолет взмыл над Шереметьевым, над заснеженными полями Подмосковья. Много лет назад раненый восемнадцатилетний курсант Давид Златкин здесь умирал в снегах, замерзал и оживал, снова умирал от холода и боли и снова оживал. Вот и сейчас здесь, над этими заснеженными полями, он будто видел себя со стороны, понимая, что навсегда прощается со своей боевой юностью, со своей прежней жизнью.
Самолет преодолевал границы, расстояния, а Давид, мысленно, как бы преодолевал барьер между прошлым и будущим, вспоминая и, как будто, споря с самим собой. «Ты же мог большего добиться в жизни», – твердил один голос. «А ты и так сделал многое – вырастил сыновей, всех выучил, всех везешь с собой в Израиль – разве это не лучший итог всей твоей жизни?» - твердил другой голос. Давид всматривался в иллюминатор самолета, небо было черным-черным, ничего не было видно, казалось, что самолет висит в небе, только грохотал мотор лайнера. Прошлого не вернуть, а настоящее... настоящее приближалось с каждой минутой.
Внезапно в салоне включили свет.
- Дорогие друзья, мы прибываем в Тель-Авив, - объявила на плохом русском языке стюардесса, и сразу же зазвучал гимн Израиля.
Давид, который десятилетиями слышал эту мелодию, согнувшись над своим старым радиоприемником, ловя на разных волнах, выискивая его среди треска советских "глушилок", но теперь она звучала как будто впервые, вызывая одновременно и чувство гордости, и слезы радости. Люди не выдержали, стали обниматься, целоваться, кто-то даже пустился в пляс. Целый самолет репатриантов приземлился 13 ноября 1990 года в израильском аэропорту.
- Мой Израиль – как же долго я ждал этого дня! – Давиду казалось, что вот оно, счастье, пришло, наконец, и к нему, после стольких лет горя и унижений.
А дальше было все, как во сне – проверка билетов, багажа, молодые приветливые ребята с улыбками встречали вновь прибывших, но когда дошло дело до досмотра на металлоискателе, Давид вдруг "засигналил".
- Что у вас в карманах? – заинтересовались таможенники. Давид снял пиджак с боевыми наградами, ручной пояс, опустил все металлические предметы в корзинку и направился к проходу, но опять сигнализация не прекращала тревожно верещать...
- Сынки, да свой я! – шутит Давид.
У моего отца из железа могло быть только одно – осколки войны, которыми было иссечено все его тело. В это было трудно поверить, но сейчас они как будто «заговорили», зазвенели, словно отдавая дань прошлому. Этих осколков в теле отца было несколько десятков.
Инцидент был выяснен, я подоспел вовремя со своими объяснениями, да и отец чуть-чуть расстегнул рубашку – короче, наконец они прошел барьер.
А наутро, когда яркое солнце осветило комнату, куда мы заехали после аэропорта, мы обнаружили на столе горку ярко-оранжевых апельсинов.
- Налетайте, не купленные! – хитро улыбается отец.
- Где ты их взял столько много? – изумилась мать.
- А я здесь уже все знаю, - играют чертики в отцовских глазах.
После того и мы, и другие новоприбывшие часто навещали "пардесы" – апельсиновые рощи, которыми был со всех сторон окружен Реховот в девяностые годы.
Не прошло и двух дней, а отец уже приглашает нас на празднество Хануки в одну из синагог города.
- Видно, он знал, что будет шикарный обед, - как всегда подтрунивает мать.
- Дети должны приобщаться к еврейским традициям. Они же ничего не знают! – отпарировал отец.
В синагоге его тепло встречают, и кажется, что он со всеми знаком уже много-много лет.
Через неделю – еще новость.
- Я приглашаю вас на занятия по изучению иврита, - сообщает отец.
Узнав, что по улице Герцля в Реховоте, где мы жили, открылся дополнительный ульпан, отец, записавшись в него, стал активно изучать иврит. В то же время сетовал:
- Почему все мало говорят на идиш? Нельзя этот язык искусственно умерщвлять.
Жизнь понемногу входила в свое русло. Наступил день, когда отцу нужно было пройти обследование на получение инвалидности, как участнику войны с фашизмом. В тот день в Союз Инвалидов Израиля приехали многие ветераны войны со всех концов Израиля. Фронтовики-инвалиды знакомились друг с другом, интересовались, кто и где воевал. И снова, как десятилетия назад, зазвучали слова: «Первый Белорусский фронт», «Первый Украинский», «Донской», «Центральный». Звучали знакомые названия сражений, битв под Москвой, Ленинградом, под Сталинградом, Орловско-Курская дуга, бои за взятие Варшавы, Будапешта, Берлина. Фронтовики будто сбросили с себя тяжесть прожитых лет, помолодели от воспоминаний. Мальчишки душой, но уже седые, сгорбленные, с палочками в руках, уходя в воспоминания, не могли забыть реальность, сегодняшнюю жизнь.
А она для многих, оказалась совсем не такой простой, как ожидалось.
«Как же быть, как жить?» - качает головой один из ветеранов. – «Дочь не может найти работу, внуки маленькие, как их растить? Одна надежда – на мою пенсию. А вдруг дадут по мизеру или вовсе откажут?»
Такие же мысли невольно одолевают и Давида. Сын, с которым он приехал и вместе снял квартиру, утром – на учебе, днем – на работе в каньоне, а вечером – на заводе. Невестка убирает квартиры за считанные шекели. Так же тяжело начинают и остальные сыновья. Замкнутый круг – и там было тяжело, и здесь – не легче.
- А ты прихрамывай посильней, посокрушайся о своем здоровье, может, это тоже поможет, - поучают его соседи по очереди.
- Нет, я перед врагами голову не склонял, а уж перед "своими", тем более, плакаться не буду, - услышав, наконец, свое имя, Давид уверенно направляется к двери. Открыв ее, четко докладывает по-военному:
- Старший сержант Давид Златкин прибыл для прохождения комиссии!
Члены комиссии с интересом смотрели на моложавого, без единого седого волоса мужчину. До этого были значительно старше, а этот – такой молодой по сравнению с ними.
- Был на фронте?
- Призван в июле 41-го, - ответил Давид.
Многое он мог бы им рассказать... Да члены комиссии это и сами видели, рассматривая его документы: тяжелейшая контузия, травма и ранения головы, ранение левой ноги, правой руки, на которое и сейчас страшно смотреть, обгорелое тело с белыми, незаживающими пятнами.
- Да, - покачал головой председатель комиссии, - с такими ранениями человек в лучшем случае прикован к кровати, а в худшем – давно уже умереть мог. А этот сидит, улыбается, сверкает глазами.
- Как здоровье, сержант? – спросил, как обычно спрашивал у всех, ожидая услышать привычные ахи-охи.
- Чудесное! – изумляет его ответом старший сержант.
- Что же держит тебя, сержант? – улыбается уже второй член комиссии.
- Моя страна, - на полном серьезе отвечает Давид.
Члены комиссии не понимают, шутит он или действительно так думает.
- Ну, как прошла комиссия? – первым делом спросила отца мать, когда он вернулся домой.
- Прекрасно, - как всегда, улыбнулся отец. – Сказали: «Езжай домой, солдат, страна тебя не обидит».
- Если уж говоришь «страна», значит, действительно будет все хорошо, - заметила мать.
Через некоторое время пришло решение комиссии о назначении отцу...
50 процентов инвалидной пенсии.
Глава тридцать третья. Спонсор – инвалид войны
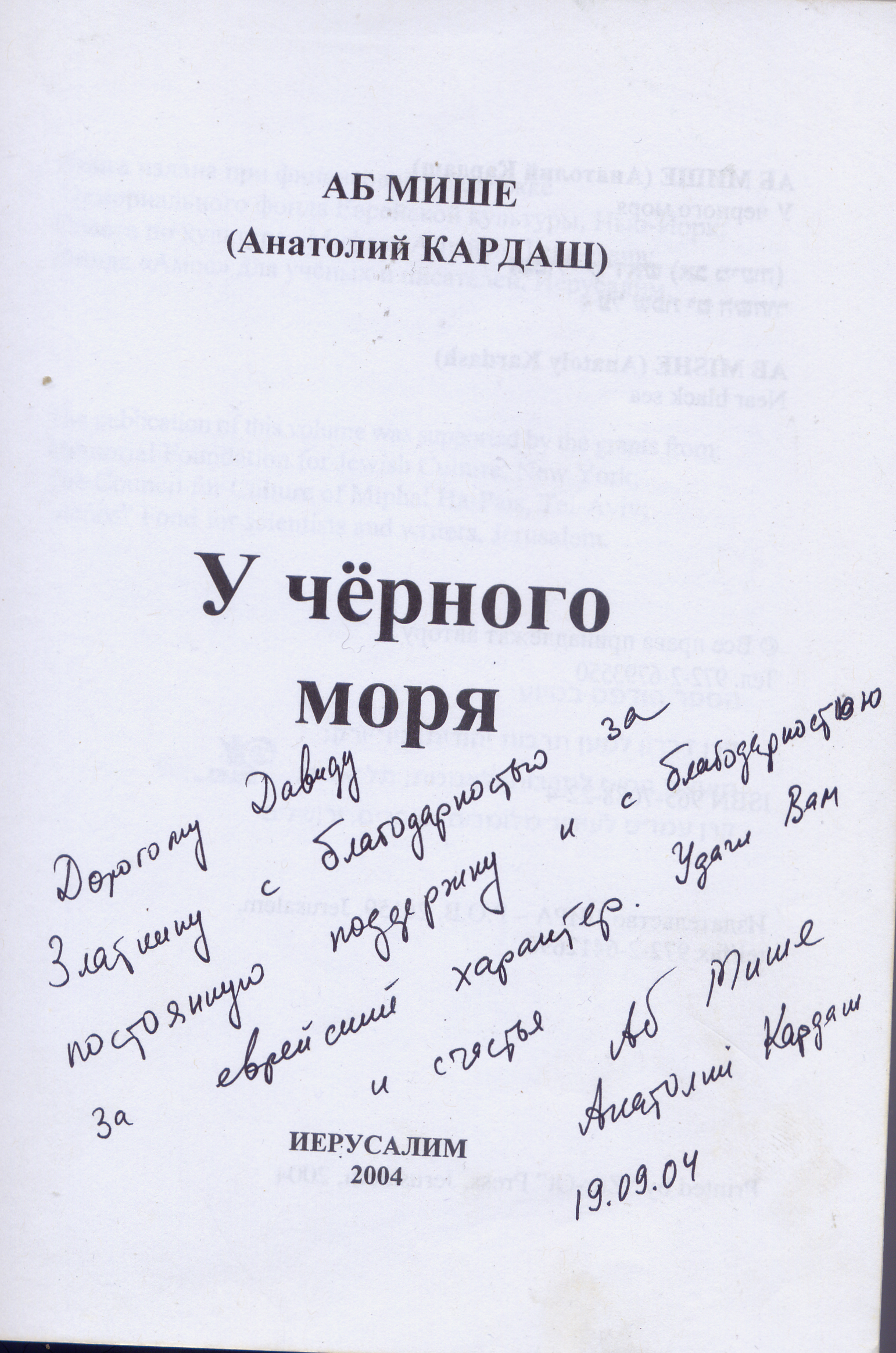 Давид сиял, улыбался открыто и широко. Только что он принес посылку из Иерусалима, а в ней – 10 экземпляров книги. Небольшая по размеру, в тонком переплете, обычная, даже неказистая на вид. Но Давиду она дороже самых значительных букинистических изданий.
Давид сиял, улыбался открыто и широко. Только что он принес посылку из Иерусалима, а в ней – 10 экземпляров книги. Небольшая по размеру, в тонком переплете, обычная, даже неказистая на вид. Но Давиду она дороже самых значительных букинистических изданий.
Наш отец был всегда любителем, знатоком книги. Прекрасно знал русскую и зарубежную литературу, историю. Однажды моей матери поручили выступать с докладом на политзанятии, но откуда ей брать информацию, когда готовиться?
- Ира, записывай! – решил отец и стал диктовать...
Назавтра все учителя, многие – с высшим образованием, литераторы, историки, были ошеломлены.
- Ирина Давыдовна, в каких библиотеках вы разрабатывали эту тему, откуда вы столько знаете? – не отпускали они ее, а она только разводила руками.
И вот сейчас этот ценитель и знаток книг бережно прижимает полученный подарок к своему сердцу. Сотрудник иерусалимского музея «Яд ва Шем» Анатолий Кардаш выпустил в свет первую книгу «Посреди войны». Среди спонсоров книги – мемориальный фонд еврейской культуры из Нью-Йорка, фонд И.Рабиновича для деятелей искусств из Тель-Авива, фонд "Амес" для ученых из Иерусалима и пять частных лиц. Двое из Америки, Двое – из Иерусалима и... простой пенсионер, инвалид войны, "оле хадаш" без году неделя в стране Давид Златкин.
Автор благодарит своих спонсоров, а наш отец Давид, звонит Анатолию и беспрестанно говорит: «Спасибо, спасибо, вы продлили мне жизнь, дали такую радость».
Мы понимали, что эта книга дорога для отца, что на одной из ее страниц опубликованы его воспоминания о том, как уничтожали евреев в его родном городе. Но, в то же время, мы не понимали, как можно было куда-то переводить деньги, когда в них так нуждается наша семья....
А отец, взяв в руки первый экземпляр книги, своим размашистым почерком написал рядом с подписью автора: «Женечке, Марику, Лее, Йони, Бене».
Теперь держу ее в руках, эту книгу, подаренную моим отцом семье моей дочери. Эта книга сохранила прикосновение отца, тепло его рук. Такие же книги со своей подписью он подарил всем своим сыновьям и внукам. Он как бы передавал эстафету памяти дальше, в будущее – внукам, правнукам, праправнукам.
19 сентября 2004 года снова Давид спешит за очередной литературной посылкой.
- Дорогому Давиду Златкину с благодарностью за постоянную поддержку, с благодарностью за еврейский характер, удачи Вам и счастья! – Анатолий Кардаш посылает своему другу новую книгу «У Черного моря».
Тема ее – память о безвинных жертвах фашизма, чем так жил Давид....
Я вхожу сегодня в поисковый интернет, пишу два слова: Давид Златкин, и сразу же раскрывается страничка: «Златкин Давид, из города Климович, прислал 378 свидетельских листов с именами погибших и просит еще»
Желтые пески будущего ашдодского района Тэт уходили за горизонт. Куда ни посмотри – бескрайние, слепящие глаза пески и пески.
- Что может вырасти в этой пустыне, здесь же никогда ничего не росло, можно сказать, библейская земля? – думал Давид, выходя каждое утро на прогулку. Нечто похожее он видел на целине, только там не пустынные земли, а залежные, нераспаханные, и туда приезжали со всей страны переселенцы, чтобы начать новую жизнь.
- По сути, а здесь мы кто? Эмигранты, олим – это же политические термины, а коль переселяемся из края в край – такие же переселенцы, только с еврейскими корнями, - рассуждал Давид, разглядывая новый район. Две первые улицы – Рав Мошаш и Ришон-ле-Цион, уже наполовину заселенные, обретали жилой вид. Возле них еще тарахтели генераторы, подавая электричество в дома. Ровными рядами свежели тротуары, и, чудо! – тонкие деревца зеленели тут и там, набирали силу, украшали первые пустынные улицы. К подъездам новых домов спешили разные агенты, продавцы, поставщики.
- Как у героев Шолом-Алейхема, все стремятся купить, продать акции-шмакции. Дай воздух, тоже продадут. Вот уж воистину еврейский характер - всюду одна коммерция! – беззлобно ворчит Давид, видя, как его обгоняют парни в строгих костюмах, с дипломатами в руках.
Давид никуда не спешит, его "клиентура", кроме него, никому не интересна. Он присаживается на скамейке, которую облюбовали самые пожилые обитатели домов. Многие на колясочках, с палочками, тихие, погруженные в свои невеселые мысли. Они никак не вписывались в ритм этой новой жизни – бурлящей, стремительной. Но эти люди, пережившие войну, Катастрофу, и не стремились к этому. У них осталось только одно – жизнь детей, внуков, правнуков.
- Как дела, откуда приехали?- интересуется Давид у них. И, познакомившись, спрашивает, у кого из них погибли родные на фронте, умерли в тылу. Кое-кто рассказывал, а большинство настораживались, когда Давид стал записывать их имена, фамилии.
- Ты кто такой? Натворит что-нибудь с нашими данными, а потом ищи тебя! – наступал на него один из собравшихся.
- Да вы что, ребята! Вот мой теудат зеут, записывайте мой адрес, я ведь живу здесь, напротив. Все, что я делаю – это добровольно. Хотите – сами заполняйте анкеты и отправляйте в иерусалимский музей, где есть Зал Имен всех погибших. Мы ведь должны это сделать, пока живы, – убеждал их Давид.
Назавтра ему уже, как старому знакомому, помогали завсегдатаи знакомой скамейки. И он уже отправляет первую партию свидетельских показаний жителей нового района Тэт о тех, кто не вернулся с войны.
А потом была вторая, третья, десятая, двадцатая... бандероль с документами в музей «Яд-ва Шем».
Глава трилцать четвертая. Почему плачет Стена Плача?
Солнце вставало над Иерусалимом, казалось, что он действительно золотой, совсем, как в песне, которую знают во всем мире.
Мужчина среднего роста, с орденскими планками на летней рубашке, уставший после долгой поездки на автобусе из центра страны, тяжело опустился у у подножия "Стены Плача".
Белая- белая стена, куда ни посмотри - огромные камни, стоящие один на другом без всякого цемента...
- Вот так же и евреи стояли и стоят намертво, из поколения в поколение. Сколько было врагов за тысячелетнюю историю еврейского народа? Где те народы, пытавшиеся истребить евреев, где их исчезнувшие империи? А еврейский народ выстоял, выдержал все испытания, создал свое государство, возродил язык предков, – сердце Давида разрывалось от переполнявшего его чувства собственной принадлежности к обретенной стране, от счастья возращения к своим истокам.
"Мечтая об Иерусалиме, мы, евреи, прежде всего, мечтали увидеть главную еврейскую святыню - Стену Плача", - вспомнил Давид слова своего отца Залмана на последнем пасхальном вечере.
- А почему ее называют "Стеной Плача", почему? Она что, все время плачет?- недоумевала маленькая Ханэле.
"Бедные мои сестренки и братья, вам не довелось дожить до этого счастливого дня!" - вспомнил их шаловливые радостные лица Давид, будто возвращаясь в прошлое.
"Если бы эти стены могли плакать из-за того, что видели в своей жизни, то вокруг Иерусалима давно уже образовалось бы море – море слез людских. А названа эта стена так потому, что в любой стране, где бы ни жили евреи, во все века, они плакали и молились о том, как вновь обрести свою потерянную Родину, как вновь возродить разрушенный Храм" - объяснял детям Айзик Златкин.
- А вы знаете, почему наши местечковые евреи не бреются, и в любое время года ходят только в черных одеяниях?- обращается к малышне Залман.
Засверкали детские глазенки, окружили взрослых.
- Потому, что вот уже более двух тысяч лет мы, евреи, в трауре по разрушенному Храму. Ни один другой народ не пронес через века такую общую скорбь.
Давид не мог оторвать взгляд от белой стены, в каждой щелочке которой покоились тысячи записок, а в них – мольба и надежда. Давид гладил рукой шершавую стену и, не стесняясь своих слез, плакал от того, что только ему одному, из всей огромной семьи, довелось дожить до этой минуты, до этого воссоединения с той землей, о которой мечтали все его ушедшие в небытие родные.
"Барух а-Шем", у него есть жена, дети, внуки, но им никогда не понять, не осознать, не прочувствовать ту горечь потерь, которая не покидала его все эти годы...
Солнце жгло все сильнее и сильнее, но не иссякал людской поток к Стене Плача. Молодые солдаты с оружием, седые старцы, ортодоксальные евреи в глубоких черных шляпах и светские, накрывшие головы кипами – здесь, прикасаясь к этим древним камням, все молились, все верили в Высшую Силу, оберегающую еврейский народ.
Вот и Давид, смешивая русские слова с идиш, молился, как мог. Главное, он впервые верил, что будет услышан...
Вспоминаю свое детство и вижу, как мой отец, увидев знакомого соплеменника, начинает с ним громко разговаривать на непонятном мне языке идиш. И сразу же настораживаются прохожие - одни усмехаются, другие бросают злобные взгляды.
-Ты паслухай, жыды размауляюць, вось смеху, - слышу рядом.
Мне неловко, краснею, подталкиваю отца, мол, пойдем отсюда быстрее. А он, ни на кого не обращая внимания, продолжает говорить, еще больше повышая голос, будто демонстрируя, что и у него есть свой язык, а значит, и свой, еврейский Бог...
Дышалось легко, свободно, несмотря на жару, на многолюдье большого города.
Давид все стоял и стоял у стены, хотя ему еще предстояло посетить музей Катастрофы "Яд ва-Шем", куда он собирался передать собранные за долгие годы записи обо всех расстрелянных в селе Климовичи. Но уходить не хотелось – словно ждал, когда все души погибших сольются с этими стенами, будто через него, своего единственного живого посланника, успеют прикоснуться к древней святыне.
Автобус увозил его все дальше от Иерусалима, а он продолжал мысленно бродить по залам музея, куда передал свои записи и чувствовал, что, возможно, в его жизни наступает самый важный этап.
Давида ждала большая работа - домой он вез внушительную кипу анкет для заполнения имен погибших.
Все оставшиеся до своей кончины годы Давид выискивал в родном, теперь уже израильском, городе пожилых евреев из России, Белоруссии, Украины и записывал, записывал данные их погибших родственников. Каждую неделю уходили почтовые отправления в Иерусалимский музей Катастрофы - все новые и новые имена находили свое место в истории замученных и расстрелянных евреев. После смерти отца осталась увесистая пачка заполненных им бланков для музея, которые он не успел отправить. Я держу в руках эти анкеты и вижу своего отца - постаревшего, ослабевшего после перенесенных тяжелых операций.
Что ему помогало держаться, не терять бодрость духа и жажду жизни?
До последнего дня он не расставался с этими бланками, которые продолжал заполнять своей, уже почти совсем не действующей рукой. Он был, как солдат, оставшийся на поле боя до последнего вздоха.
- Батя, хватит! Остановись, отдохни, - упрашивал я его.
Отец, превозмогая боль, чуть слышно отвечал:
- Сынок, ты пойми! Эти анкеты - как памятники погибшим. Память о каждом из них должна быть сохранена. Это долг всех оставшихся в живых.
Сегодня в зале Имен иерусалимского музея хранятся сотни и сотни анкет, заполненных израненной рукой фронтовика Давида Златкина.
Я еще и еще раз перебираю письма, адресованные моему отцу из Иерусалима.
«Дорогой Давид, в своих лекциях я рассказываю о Вас, о Вашей благородной работе. Высылаю Вам 100 новых листов. Низкий поклон Вам за Ваш титанический труд. Анатолий Кардаш.»
«Дорогой Давид Залманович, подтверждаю получение 41 листов памяти..., 23 листов, низкий Вам поклон, с глубоким уважением, Оксана Король, сотрудница Зала Имен...»
«Дорогой Давид, получили Ваш следующий пакет, мы все проверяем и вносим в компьютер. Все присланные листы с именами погибших хранятся у нас в коробках с особыми наклейками, обозначающими особую ценность» - читаю следующее письмо.
Письма, письма... Со словами признательности, словами благодарности. Я смотрю сейчас на эти пожелтевшие от времени странички, ставшие уже для меня, для всех нас частичкой истории жизни нашего отца.
Казалось бы, приехав в Израиль – поживи спокойно, посиди на скамейке, подыши воздухом, отдохни на берегу моря. Так нет, постоянный поиск тех, кто не вернулся с войны, оставшихся там, за чертой Катастрофы. Я думаю, и наш отец душой своей остался тоже там, за той страшной чертой....
Когда друзья-журналисты прислали мне книгу «Память», изданную в городе Климовичи об истории района, отец нашел в ней еще десятки имен евреев, расстрелянных на территории района. И, естественно, он заполнил новые свидетельские листы и снова отправил в музей «Яд-ва-Шем».
- Батя, вся Белоруссия была под огнем. Если связаться с соседними районами – Кричевом, Мстиславлем, Чериковым, Бобруйском, Хотимском, Костюковичами и другими – сколько свидетельских показаний ты еще можешь заполнить, - говорил я ему.
- А что сынок, поможешь мне? Выписываю командировку, - и отец, на полном серьезе, стал искать свою чековую книжку, чтобы оплатить мне расходы на дорогу.
- Батя, ты же знаешь, у меня ни минуты времени нет! – так же серьезно отвечаю я ему. Тогда мы, конечно, шутили, но сейчас я думаю о том, когда-нибудь я обязательно доделаю то, о чем мечтал мой отец.
Командировка в прошлое состоится, я обещаю это тебе, батя!
Глава тридцать пятая. Доживи до юбилея!
 Тихо идут настенные часы: тик-так, тик-так, тик-так… Дети – сын и невестка - с утра ушли по своим делам. Метапелет – работница от службы социального страхования по уходу за пожилыми людьми, приходит в 8:30 и находится до 12:00. Вторая работница должна подойти к 14:30. Обычно в полдень приходит на перерыв сын, обязательно зайдет в комнату: "Что помочь, как дела?" – неизменный вопрос любящего сына.
Тихо идут настенные часы: тик-так, тик-так, тик-так… Дети – сын и невестка - с утра ушли по своим делам. Метапелет – работница от службы социального страхования по уходу за пожилыми людьми, приходит в 8:30 и находится до 12:00. Вторая работница должна подойти к 14:30. Обычно в полдень приходит на перерыв сын, обязательно зайдет в комнату: "Что помочь, как дела?" – неизменный вопрос любящего сына.
Звонят по телефону сыновья Яков, Сергей, Григорий, Лев. Внуки, правнуки, а в субботу – посещения за посещениями, гости за гостями.
Тогда мать все свое угощение выставляет на стол.
Вокруг зеленые деревья, почти такие же, как были в родном селе. Только тот сад посадил Давид с маленькими детьми, а этот уже посадил старший сын с Давидом…
Ира смотрит в окно. Всегда смотрит, когда она одна, когда может отдаться своим воспоминаниям. Часы на стене постукивают тик-так, тик-так.
- Сколько лет прожили в Красавичах? – спрашивает сама у себя. – Да, семь лет, ровно семь лет.
- А в Михалине? Тридцать три года, почти вся жизнь там прошла, дети выросли, туда же приезжали с женами, внуками. Думала, что в Израиль еду доживать – ведь было уже 70, но 20 лет пролетели как один день.
Двадцать лет! Все пятеро сыновей живут с матерью в одном городе Ашдоде, не то, что раньше - один в Перми, второй – в Тбилиси, третий – в Сухуми, четвертый – в России, пятый – в Белоруссии. Как могла бы с ними встречаться? А здесь – выйдешь на балкон и даже можно увидеть дом сына Григория.
Поднимает взгляд на фотографии мужа – одна на стене, вторая – на столе.
- Что же ты, батя, меня одну оставил на земле? Дети, конечно, любят меня, но как мне тебя не хватает! В нашей долгой жизни всякое случалось, но главное мы с тобой сделали – всех детей поставили на ноги. Во всем себе отказывали, все от себя отрывали, но детям помогли получить высшее образование.
- Батя, батя, - качает головой Ира. – Всех наших внуков успели переженить, правнуков дождались, даже бат-мицву старшей правнучки вместе праздновали.
- Батя, батя… Скучно мне без тебя. Займусь чем-нибудь, забуду, а потом – опять к тебе, к твоему кителю с боевыми наградами. Он – в нашей комнате, в нашем шкафу, не могли мы положить его вместе с тобой. Все твои книги, что ты собирал, все твои записи – все храним, все бережем.
Кажется, будто ты просто ненадолго вышел и скоро вернешься к нам, в наш новый израильский дом.
За окном покачиваются ветви деревьев, проносятся машины, а здесь в комнате идет тихий разговор без слов, только в мыслях, лишь неслышно шевелятся губы.
- Ира, Ира, как жена инвалида войны ты будешь продолжать пользоваться всеми моими льготами, - все ты повторял, словно предчувствуя наше скорое расставание.
- Спасибо тебе, батя, я и сейчас чувствую твою заботу. Каждый месяц я поздравляю всех наших именинников. Поздравляю и от тебя тоже.
- Сколько, батя, у нас с тобой именинников в январе?
- Правильно, три…
- А в августе?
- Правильно, пять, всех ты помнишь!
Ты знаешь, в сентябре у нас уже стало на одного именинника больше – у нашего Гриши родилась первая девочка после двух внуков.
.jpg) - Что тебе еще рассказать? Заканчивает службу наша внучка. Ты так хотел, чтобы кто-то из нашей семьи был офицером. Она стала офицером израильской армии – лейтенантом. Осенью увольняется из армии, а на смену ей уходит в армию уже наша первая правнучка. Подрастают и другие правнуки. Ты так мечтал в жизни хоть когда-нибудь увидеть израильского солдата! Сегодня в форме израильской армии - твои правнуки.
- Что тебе еще рассказать? Заканчивает службу наша внучка. Ты так хотел, чтобы кто-то из нашей семьи был офицером. Она стала офицером израильской армии – лейтенантом. Осенью увольняется из армии, а на смену ей уходит в армию уже наша первая правнучка. Подрастают и другие правнуки. Ты так мечтал в жизни хоть когда-нибудь увидеть израильского солдата! Сегодня в форме израильской армии - твои правнуки.
- Что у меня нового? Да ничего особенного – утро сменяется днем, день вечером, все как всегда. А помнишь, - оживилась Ирина, - как на нашей золотой свадьбе ты мне наказал дожить до юбилея – до 90 лет. Я тебе обещала – и вот, дожила. И юбилей справила – все, как ты наказывал.
В тот вечер было шумно в нашем доме. Все пришли: сыновья, невестки, внуки, правнуки. В центре стола, в белой кофточке – именинница. Рядом – красочный плакат с фотографиями Ирины и Давида.
- Такой был вечер, батя - неповторимый, сказочный. Ты тоже там был, я это чувствовала. Мне казалось, что с твоей фотографии исходило какое-то сияние, ты будто радовался вместе с нами, как всегда, - продолжает беззвучный разговор Ирина.
Переводит взгляд на фотографию своей мамы Софьи.
- Мама, как ты далеко! Как вы все далеко – ты, папа, братья, сестры. Одна я осталась из всей нашей семьи. Сколько уже лет у меня своя семья, а я вас всех помню, - говорит Ирина и видит свой дом в селе Доброе и ту страшную ночь, когда убили деда.
 Видит бегущую себя по васильковому полю под разрывами бомб.
Видит бегущую себя по васильковому полю под разрывами бомб.
Видит в теплушках вагона, уносящего ее в тыл.
Видит себя в классах Оренбуржья.
Видит себя в классах красавичской школы.
Видит себя в ту ночь, когда перевозила детей.
Видит, как согревала и спасала их от холода-голода.
Видит у себя на руках маленькую Женечку.
Видит свой дом, который остался далеко, в Михалине.
Видит себя с Батей – на свадьбах, в клубах, куда их приглашали вместе с мужем.
Видит себя на всех семейных торжествах.
- Ирина Давыдовна, где вы? – слышится голос Ани, старшей невестки. Все невестки называют ее уважительно, по имени-отчеству. Генриетта, Сусанна, Элла, Алла когда-то робко входили в ее семью. Стали своими за десятилетия, родили внуков, внучек, сроднились.
Со старшей невесткой Аней связывает многое: и совместная жизнь в одном городе в Белоруссии, и двадцатилетняя жизнь в Израиле в одной квартире, и самое главное – что целый год она растила ее дочурку.
Никто про это не говорит, не вспоминает, да и зачем – все знают, все благодарны в душе. Жизнь связывает общими воспоминаниями, общими заботами, общими радостями и общими печалями.
- Ирина Давыдовна, начинается ваш любимый телесериал – "Ефросинья". Идите в гостиную, будем вместе смотреть, - напоминает Аня.
 Утро. Израильское солнце рано стучится в окна. Начало седьмого. А мама, заправив кровать, как солдат-новобранец, умывшись холодной водой из-под крана – так она делает каждое утро – выходит на свою кухню. Увидев меня, улыбается, подмигивая мне:
Утро. Израильское солнце рано стучится в окна. Начало седьмого. А мама, заправив кровать, как солдат-новобранец, умывшись холодной водой из-под крана – так она делает каждое утро – выходит на свою кухню. Увидев меня, улыбается, подмигивая мне:
- Кто рано встает – тому Б-г дает.
И добавляет:
- Выйти замуж – надо знать
Поздно лечь и рано встать.
Я в ответ хохочу, получая заряд бодрости на целый день.
Жизнь продолжается...
Глава тридцать шестая. Уцелевшая ветвь
Белорусское послевоенное село...
Оно даже не встало на колени после войны. Покосившиеся домики, сразу видно, где живут солдатские вдовы, соломенные крыши, пустые полки одного- единственного магазина, бездорожье, а зимой и весной снежные бури и распутица. Жить в таких условиях было трудно всем местным жителям, но особенно невыносимо было еврейской семье – единственной во всей округе.
Все мои ровесники щеголяют по весне в новеньких сатиновых рубашках, а я в видавшей виды рубашонке.
- Ты что, не знаешь? Сегодня же Пасха! Я иду к крестной матери за подарком,- делится со мной радостью мой одноклассник.
- Почему у меня нет крестной матери? Почему мы здесь одни? - плачу от обиды.
-Эх ты,- гладит меня по голове отец, - не понимаешь? Евреев не крестят, а мы все - и я, и мама, и ты, и младшие братья - евреи. А здесь мы одни такие потому, - отец на какое-то время задержал дыхание, - что всю мою родню убили фашисты. Единственная родня, которую мы знали, была со стороны нашей матери.
Ее сестры Маруся и Рая, брат Абраша, и, конечно же, бабушка Соня, обогревали нас всегда, когда мы изредка приезжали в соседний город Мстиславль.
- Ну, к кому заедем сначала? - спрашиваю у матери.
Пишу сейчас эти строки и вижу ее, худенькую, как хворостинка, с изможденным от вечных забот лицом, хотя было ей всего 40 лет. Туфельки изношенные, платьице старенькое, но аккуратное, хорошо сшитое. Думаю про себя, какая же она красивая - две черные косы сгибаются до пояса, глаза улыбаются. Еще бы! Какая радость на день- два вырваться в город, к родным, отвести душу, поговорить обо всем, да и выплакаться, чтоб на душе стало легче... Ну, а потом снова к семье, в этот нескончаемый поток забот и дел.
- Мама, ну, к кому зайдем сначала, - не отстаю я, - в какой дом?
Я такой богатый! У меня здесь четыре дома, где живут мои родственники. И везде, куда мы ни зайдем, будут радостные возгласы при встрече, объятия, поцелуи. Везде – нам рады!
Со стороны отца осталась только двоюродная родня, которая представлялась нам далекой-далекой. Прежде всего, она действительно находилась от нас далеко, да и впервые мы встретились только тогда, когда один за другим, стали покидать родительский дом. Но какими же родными людьми мы стали с годами, как многое свершилось в нашей жизни благодаря именно этой уцелевшей ветви нашей семьи.
Глава тридцать седьмая. Дом под облаками
 Но я не представляю, как бы мы входили в жизнь без этой двоюродной родни, которая на самом деле оказалась такой, что ближе не бывает.
Но я не представляю, как бы мы входили в жизнь без этой двоюродной родни, которая на самом деле оказалась такой, что ближе не бывает.
"Сашка!", - негромко окликнул высокого мужчину, который стоял возле калитки мой дед.
Я и Залман – мой дед по отцу, встав рано утром, долго шли пешком на железнодорожную станцию. Потом долго ехали в ночном, трясущемся поезде, затем долго добирались на городском автобусе. Еще петляли по улицам, пока одна из них не вывела нас к подножью какой-то горы.
Неширокая дорожка вела вверх, где белел какой-то замок, так, во всяком случае, показалось мне. Возле входа в этот замок, открывая калитку, стоял высокий мужчина.
На голос деда он повернулся, минуты две осматривался, потом его большое лицо залила улыбка. Раскинув широко руки, он бросился к моему деду. "Дядя Залман, дядя Залман, ты ли это? Не верю своим глазам", - восклицал он.
Когда встречались в последний раз – да перед войной, когда Сашка еще был, непоседливым пацаненком, а дядя Залман черноволосым, с белозубой улыбкой. Теперь Залман старик, потерявший всю семью. Сашка, бывший тихоокеанский моряк, за слово "жид" сбросил мичмана с палубы корабля. Осужденный за это, остался навечно со шрамом на весь лоб. Когда сговорившись, уголовники напали на него в камере, такой же высокий, как и его отец, кузнец Лейба, он не сдерживал свои пудовые кулаки. "Не убили, не искалечили, хотя такая была дана команда", - говорил Сашка, незаметным жестом поглаживая рубец на лбу, - "но постоянная сильная головная боль осталась на всю жизнь".
Над Могилевом шел проливной дождь, молнии грохотали над самым домом. Александр Синичкин свой дом построил на самой вершине. Никто не хотел здесь строиться, но на другое место ему не давали разрешение. Александр был согласен на все трудности. Сам расчистил площадку на вершине, сам сделал дорогу, сам завозил строительные материалы.
- Ты такой же, как твой отец, Лейба, - и все качает и качает головой Залман. - Где вы, молодые годы, когда он и его друг силач Лейба ухаживали за сестрами красавицами Сарой и Стерой? Сары и детей нет, Стера осталась в живых. Она тоже здесь, сидит в соседней комнате. Но и ее война не обошла стороной - память ее подводит, рассудок помутнен...
Так я впервые встретился и познакомился со своим дядей Сашей – двоюродным братом моего отца.
С той памятной первой встречи мы встречались десятки раз. Дом на улице Льва Толстого на самой высокой горе, построенный руками нашего двоюродного дяди, стал домом нашего родного дяди! Мы прилетали, мы приезжали сюда вначале по одному, а потом и семьями с Урала, Грузии, России. Отдохнув здесь от дальних дорог, продолжали свой путь дальше – на восток, к родительскому дому.
Закрываю глаза и вижу дядю Сашу – сильного, высокого. Он стоит в окружении цветущих белых яблонь. Стоит на самой вершине, а над ним проплывают облака. Кажется, стоит только немного подпрыгнуть вверх и коснешься их рукой... А дядя Саша протягивает мне руку, зовет за собой. "Идем, я тебе приготовил подарок", - и дает мне классную зеркальную немецкую фотокамеру.
Мне, пареньку 13-14 лет! Это не то, что теперь, когда с детства почти у каждого самые крутые мобильные телефоны, смартфоны, компьютеры и еще всякая всячина, о чем мы и мечтать не могли. Даже подумать не могли! Сегодня не нужно особых знаний, только щелкай - вот и весь фотопроцесс, а тогда фотография – да это же целая жизнь! Именно дядя Саша приоткрыл мне в нее дверь, ну а дальше я пошел сам...
Два года изучал фотографию в одном из учебных заведений Минска. Зато когда стал работать фотографом в крупном ателье и принес в газету свои пейзажные фотоэтюды, редактор газеты выхватил их у меня из рук и стал бегать по кабинетам редакции, показывая всем.
Благоларя подарку дяди Саши появилась не только любовь к фотографии, но и к фотожурналистике. Более 30 лет после окончания университета я проработал в белорусских и русских изданиях. Почему я так подробно остановился на этом примере? Да просто потому, что очень важно, когда мы в юности встречаем на своем пути таких людей, как дядя Саша.
Студентами мы, братья Златкины, иногда вдвоем, а нередко и втроем и вчетвером, вваливались в дом Синичкиных. На улице – мороз, а в карманах только ветер... Двоюродная родня и накормит, и напоит, и обогреет. Жена Саши Рая, такая добродушная, с улыбкой на лице, широким жестом приглашает нас к столу. До этого она, лаборантка одного из заводов, целый день простояла в резиновых сапогах на работе, но никогда не показывала даже тени усталости или какого-то недовольства от набега незваных гостей.
Наши троюродные брат и сестра Леня и Жанна еще дети, но с интересом прислушиваются к разговору, деля со всеми радость общения.
 Пройдут годы, уйдут из жизни Саша и Рая. Но в один прекрасный день примчатся к нам в Израиль из Москвы столичные гости Леонид и Жанна Синичкины. Больше всех им, конечно, был рад наш отец – Батя! Оставшись один- одинешенек, он так редко встречал у себя родственников со своей стороны. А через день... Батю увезли в больницу, откуда он уже не вернулся.
Пройдут годы, уйдут из жизни Саша и Рая. Но в один прекрасный день примчатся к нам в Израиль из Москвы столичные гости Леонид и Жанна Синичкины. Больше всех им, конечно, был рад наш отец – Батя! Оставшись один- одинешенек, он так редко встречал у себя родственников со своей стороны. А через день... Батю увезли в больницу, откуда он уже не вернулся.
Родительский дом был не близко, поэтому дом дяди Саши в Могилеве был для нас как отцовский. Три моих брата из пяти, получили дипломы могилевских вузов. Когда отмечали их получение, то первый тост, естественно, был за гостеприимный дом Синичкиных.
Глава тридцать восьмая. Еврейские глаза
 Таким же теплым домом для нас был и дом Левиных в Орше. Здесь находился крупный железнодорожный узел. Поезда приходили и уходили, и так получилось, что Орша всегда была на нашем пути по дороге домой. Сколько еще часов, пока откроешь родную калитку, а мы уже измотаны долгой дорогой. И без звонков, без разрешения стучим в дверь. "Здравствуйте!". Ощущение незваных гостей даже не возникает, на нас устремлены глаза, полные тепла и любви.
Таким же теплым домом для нас был и дом Левиных в Орше. Здесь находился крупный железнодорожный узел. Поезда приходили и уходили, и так получилось, что Орша всегда была на нашем пути по дороге домой. Сколько еще часов, пока откроешь родную калитку, а мы уже измотаны долгой дорогой. И без звонков, без разрешения стучим в дверь. "Здравствуйте!". Ощущение незваных гостей даже не возникает, на нас устремлены глаза, полные тепла и любви.
Когда я впервые увидел эти глаза?
В Мстиславле, куда я приехал с мамой, на меня вдруг набросились две черноволосые девчушки. Я никогда их раньше не видел.
"Это же сын Давида", - все восклицали Галя и Мария, двоюродные сестры моего отца. На столе стоит невиданное в послевоенные годы угощение –
сочная ярко-красная клубника.
 И вот новая встреча, когда я приехал в Могилев. Навстречу мне выпрыгнула какая-то сказочная попрыгунья. Огромные черные глаза, роскошная черная коса на высокой груди, тонкая талия, очаровательная улыбка! Я никогда не видел такой красоты раньше. В моем родном городе еврейских девушек было немного, да и те какие-то неуклюжие подростки. А передо мной стояла истинно еврейская красавица! Это даже я в свои15 лет смог оценить. Как во сне до меня донеслись слова Сары: "Такой сейчас была бы твоя родная тетя Хана. Они ведь с Галей одногодки". Но погибла во время войны моя будущая тетя Хана, в трехлетнем возрасте осталась навечно в песчаном рву.
И вот новая встреча, когда я приехал в Могилев. Навстречу мне выпрыгнула какая-то сказочная попрыгунья. Огромные черные глаза, роскошная черная коса на высокой груди, тонкая талия, очаровательная улыбка! Я никогда не видел такой красоты раньше. В моем родном городе еврейских девушек было немного, да и те какие-то неуклюжие подростки. А передо мной стояла истинно еврейская красавица! Это даже я в свои15 лет смог оценить. Как во сне до меня донеслись слова Сары: "Такой сейчас была бы твоя родная тетя Хана. Они ведь с Галей одногодки". Но погибла во время войны моя будущая тетя Хана, в трехлетнем возрасте осталась навечно в песчаном рву.
Это только потом, с годами, я острее почувствовал боль отца, с которой он жил все годы и ту пустоту, которая меня окружала из-за отсутствия родных со стороны моего отца. Поэтому двоюродные сестры стали мне и моим братьям родными.
Помню, как каблучки Гали постукивали по могилевской мостовой, как черные волосы развивались от ветра, а она - грациозная, изящная, самая красивая, шла со мной по улицам древнего города.
В солдатской гимнастерке, в кирзовых сапогах, я приехал первый раз в дом тети Гали в Орше. В первую гражданскую ночь после трех лет армейской жизни мне здесь было уютно, как в родном доме.
В дом к тете Гале я приехал с радостной вестью, что поступил на факультет журналистики университета. "Какие у меня племянники! Один будет журналистом, вторая – актриса" – все радовалась она за меня и за мою троюродную сестру, которая поступила на актерский факультет.
Матвей, муж Галины, был таким же родным и близким. Когда мы врывались в дом в присутствии его жены, он, сверкая радостно глазами, приказывал: "В ванную и за стол!".
Старшая сестра Галины – Мария, даже нередко обижалась, что мы к ней заезжали реже. Но как-то запомнился лучше адрес Левиных. А в один из новогодних дней Мария просто настояла на нашем посещении ее дома. Это был удивительный вечер! Маленькая комнатка, но стол был накрыт с истинной щедростью. Тихо постукивали часы-ходики, но мы не замечали время в эту новогоднюю ночь, все говорили и говорили о жизни, о книгах. А библиотека у них была их главным богатством. Когда я уходил, Владимир, русский муж Марии, к которому я относился несколько настороженно, вдруг мне протянул новые кожаные перчатки. Для меня, студента первокурсника, это было роскошным подарком.
В семье Синичкиных был у отца еще один двоюродный брат Дима. В полковничьей папахе, в строгой шинели увидел я его в первый раз. Потом мы встречались чаще, когда он вышел в отставку, но как-то не удалось с ним поговорить более подробно. Я не успел. Будучи в Белоруссии, два года назад, хотел увидеть своего дядю, еврейского полковника, но как-то не сложилось. А через год его внук Иван Синичкин сообщил, что не стало его деда...
Мои воспоминания сменяются одно за другим. После многочасового перелета через Атлантику предстоит встреча с моими белорусскими родными, ныне живущими в Америке. Воспоминания, нахлынувшие на меня в полете, как бы протягивают мостик между прошлым и будущим. Между Белоруссией и Израилем, а вот теперь и Америкой.
Самолет бросало из одной воздушной ямы в другую, над Атлантикой штормило. Далекий, нелегкий путь из Израиля в Америку казался бесконечным. И вот, наконец, нью-йоркский аэропорт, таможенная служба, юркие желтые такси. Мы – в Америке! Наша израильская группа была доставлена в одну из манхэттенских гостиниц. А Манхэттен – это монстр из стекла и бетона. Небоскребы справа и слева, со всех сторон. Маленьким человечком ощущаешь себя здесь, никому не нужным. Но мне-то легче, я среди своих в группе израильтян, живу в гостинице, а каково было Михаилу, единственному сыну Гали и Матвея, когда он впервые ступил на землю Америки? Ни знакомых, ни родных.
Прождав несколько месяцев в Италии, он, в конце концов, получил въездную визу, но это было только начало. Ожидая его в холле гостиницы, я продолжаю вспоминать. Миша довольно рано перестал быть нашим младшим братом, хотя по возрасту, он им и остался. Общаясь в своем студенческом кругу с молодыми горячими евреями, он рано для себя открыл то, что мы еще не видели. Еще в 1970 году мы получили первый вызов в Израиль, но еще не были готовы к этому. Даже когда получили извещение о громадной посылке из Израиля, то не стали ее забирать.
Прозрение было тяжелым. "Ты посмотри, посмотри, какое черное небо, какие убогие постройки, какие рытвины на дорогах, какие угрюмые лица. Ты посмотри, посмотри, что тебя окружает!", - открывал мне глаза мой младший брат. И я увидел... Очереди в магазинах и на автобусных остановках, ограничения абсолютно во всем – раньше воспринималось, как что-то обычное... С этим я вырос и с этим рос, но, как, и многие другие, иной жизни, просто не знал. Минская синагога по улице Кропоткина, куда привел меня мой младший брат за день до своего выезда в Америку, стала моим первым еврейским домом. Маленькое невзрачное здание снаружи, внутри освещалось каким-то необычным духовным светом от пламенных взглядов собравших и от какой-то необъяснимой внутренней энергии.
"А ты знаешь, что на улице скрытно фотографируют всех тех, кто сюда заходит? Ты не боишься?", - поднял на меня черные глаза молодой бородач.
 "Нет, я уже решил уехать в Израиль и сюда прихожу, чтобы получить новую информацию, взять книги и самоучители по ивриту".
"Нет, я уже решил уехать в Израиль и сюда прихожу, чтобы получить новую информацию, взять книги и самоучители по ивриту".
Все, кто приходил в эту синагогу, открывали, для себя новый мир, и в их числе были мой брат Михаил Левин и его друг Юрий Дорн, первый преподаватель языка иврит в Минске. Сегодня он президент белорусско-иудейской организации.
Юрий Дорн еще тогда меня удивлял: он готовил к отъезду многих, и с каждой группой, как будто уезжал сам, оставаясь при этом до сегодняшнего дня в Минске, чтобы помогать все новым и новым людям дорогу в еврейскую жизнь.
Михаил и Юрий, открыв для меня дверь в Израиль, сегодня живут в разных странах, продолжая начатое.
Все это я вспоминаю и вспоминаю в ожидании встречи со своим, теперь американским братом. И вот он на пороге манхэттенской гостиницы, в шикарном костюме, но с таким же, как прежде, простым и открытым взглядом и светлой улыбкой.
"Миша, Миша", - думаю я про себя, – "как же тебе было тяжело открывать для себя Америку? ". Будто угадав мои мысли, Михаил говорит: "Люди думают, что в Америке доллары растут на деревьях. Что такое Америка? Это автострада. Мчишься по ней как в автомобильном потоке. Тебя могут выбросить в кювет, тебя могут сбить, ты можешь затормозить, но ты ведешь машину сам, и направление выбираешь только ты и никто другой. Но можно и по-другому. В Америке множество всевозможных благотворительных фондов. Можно жить за их счет, ходить с протянутой рукой. Я выбрал автостраду – стремительную гонку жизни".
Михаил Левин окончил в Белоруссии машиностроительный институт, второе институтское образование получил в Америке. На выпускном вечере он был назван в числе лучших выпускников. Сейчас у него прекрасная, хорошо оплачиваемая работа. А с чего он начинал в Америке? Развозил на велосипеде заказы для больных из аптеки. Когда отдыхал? Когда присаживаясь у телевизора, успев лишь снять ботинки с натруженных за день ног, проваливался в тяжелый сон.
Улыбаясь, Михаил гонит свою машину по Бруклинскому мосту. Ветер свистит, вокруг море огней, ощущение просто фантастическое - влетаем на полной скорости в район Бруклина на Брайтон-Бич. И снова, как в далекой юности, передо мной возникают глаза тети Гали, полные любви и света, а рядом трогательное лицо Матвея. Все как в Орше, хотя и на Брайтон-Бич.
Тетя Галя совсем не постарела, хотя прожитые годы оставили свой след. Мы много говорили, вспоминали, а еще больше смотрели друг другу в глаза, и я видел все ту же огненную попрыгунью.
Глава тридцать девятая. Древо жизни
Белоруссия. Середина лета. Отцвел давно уже картофель, и теперь мать балует нас свежим картофельным пюре, нередко и картофельными оладьями -драниками. Мы – детвора, заняты кто чем. Один вернулся из леса с грибами, другой читают фантастику, кто-то сражается друг с другом в шахматы. Отец прильнул к старенькому приемнику, ловит "голос Израиля", а наш дед Залман в теплых штанах и длинной белой рубашке, опершись на толстую палку, сидит, уставившись в одну точку. Подхожу к нему, присаживаюсь рядом под раскидистыми ветвями вишневого дерева. Черные спелые вишни так и просятся в рот, но дед ничего не видит, ни на что не обращает внимания.
- Дед, почему ты такой грустный, - дергаю его за рукав.
- Галик, - так он всегда меня называет, - война отобрала всех моих детей, Злату, Муню, Хану, жену Сару. Только один Давид и остался – твой отец. А где, где все остальные?- поднимает он на меня свои печальные глаза.
- Дед, так ведь война давно уже закончилась, - успокаиваю я его, а сам спешу играть то ли в футбол, то ли в лапту.
Мне сейчас столько же лет, сколько было тогда моему деду Залману. И то, что я не понимал тогда в детстве, болью отзывается теперь в моем сердце – я хорошо понимаю своего деда, я уже сам испытал горечь потерь любимых и близких.
Мой дед уже не мог жить, как прежде, после всего пережитого он тихо доживал свой век.
Но Б-г был милостив к роду Златкиных. Несмотря ни на что, он продолжался – и в сыновьях Давида, и в дочерях Айзика.
Июльские газеты продолжали пестреть заголовками "Победа будет за нами! Враг будет разбит!".
А тем временем немецкие войска, захватив уже всю Белоруссию, стоят у стен Москвы.
Гися и Злата начало войны застали на Украине, в городе Николаеве. Когда отсюда стали отправлять эшелоны в тыл, сестры Златкины долго не раздумывали - из газет они уже знали о зверствах фашистов в Белоруссии, о повальном уничтожении евреев в родных местах и с ужасом предполагали, что из их семьи уже никого не осталось в живых.
- Завтра будет эшелон в сторону Средней Азии. Там такая красота – целый год лето, арбузы, фрукты. Точно как в Крыму, - убеждала одна из знакомых.
- Нет, ни минуты ждать не будем. При первой же возможности уедем. Куда? Нам все равно, на юг или на север – приняли твердое решение совсем еще юные девушки, почти подростки.
Можно только догадываться, как им удалось втиснуться в один из эшелонов, шедший на Урал, куда с Украины вывозилось оборудование для новых военных заводов.
Можно долго рассказывать, как ютились они в войну в заводских цехах, как сутками работали у станков, как мерзли, как голодали – все выдержали, главное было, дождаться Победы!
Вот тогда, в грозные годы войны, на заснеженной уральской земле пустило корни новое семейное древо Златкиных.
Мог ли думать в свой последний час старый Айзик, что две его дочери не только выжили сами, но и дали жизнь другим. Придет время, и уральская ветвь семейства Златкиных соединится с белорусской.
Случится это на свадьбе нашего брата Якова, где встретятся через десятилетия Давид, Гися и Злата.
Видимо, так судьбе было угодно, чтобы после окончания авиационного института, молодой инженер Яков Златкин приехал в Пермь. Здесь он встретил свою судьбу, здесь построил свой дом. И здесь впервые встретил своих многочисленных уральских родственников.
В один, поистине, прекрасный день, раздался международный телефонный звонок.
- Я Бэла, дочь Златы. Мы – двоюродные брат и сестра, - слышу я голос издалека, - В Израиле находится моя внучка Анечка, она сейчас в Ашдоде…
От волнения, я не сразу понял, с кем я говорю, только все повторял: «Да-да-да…»
 Прошло несколько дней, и на пороге моего офиса появилась девчушка в солдатской форме с рюкзаком на плече, которые обычно носят израильские солдаты. Сердце тревожно защемило, что-то незримо родное почувствовалось сразу, в первый миг, как только я увидел ее среди своих многочисленных посетителей. Я понял – это она, моя незнакомая племянница.
Прошло несколько дней, и на пороге моего офиса появилась девчушка в солдатской форме с рюкзаком на плече, которые обычно носят израильские солдаты. Сердце тревожно защемило, что-то незримо родное почувствовалось сразу, в первый миг, как только я увидел ее среди своих многочисленных посетителей. Я понял – это она, моя незнакомая племянница.
И она, и ее двоюродная сестра Юля, дочка Гиси, обе приехали в Израиль, они, закончили ульпан, призвались в армию. Трудно поначалу было этим хрупким девушкам, но ведь они были истинными внучками своих боевых бабушек, а значит, никакие трудности их не смогли сломить.
Аня любит рассказывать про свою семью. Про мать, про отца - украинца, прошедшего афганскую войну.
- Как только мой брат Ефим подрастет, хочу забрать его к себе, в Израиль, - мечтает юная новая израильтянка с миндалевидными глазами и украинской фамилией.
А впереди, была еще одна волнующая встреча.
В Москве встретились правнуки Залмана и Айзика – Леонид Кагай и Игорь Златкин, четвероюродные братья.
Семейное древо Златкиных разрастается – даже война не смогла его погубить.
Глава сороковая. Возвращение к еврейским корням
Николай Кравец, успешный бизнесмен из Подмосковья, с детства приставал к матери с расспросами:
- Мама, где твои родные? Знаю, что у тебя есть брат Ваня и сестры Нина, Женя. Но кем были твои родители - мои бабушка и дедушка? Где мои другие братья и сёстры? Вообще, откуда ты родом?
Мать обычно отмалчивалась, старалась под разными предлогами уйти от ответов сыну. Однажды вечером, Николай позвонил своему брату Александру в Астрахань.
- Саша, я хочу вместе с тобой полететь в Израиль, согласен? – предложил он брату.
- Согласен. С тобой – хоть на край света, - забасил Сашка.
- А это и есть край света, - усмехнулся на другом конце провода Николай, - Приезжай, я тебе всё расскажу подробно.
Последнее время ему казалось, что он живет какой-то двойной жизнью. В коротких разговорах с матерью, с незнакомыми людьми, которые как-то заходили к ней, он понимал, что мама – совсем не та, за кого себя выдавала все эти годы.
В Офакиме, маленьком городке на юге Израиля, Николая и его брата Александра уже ждали. Хая Хейфиц достала из альбома старую пожелтевшую фотографию.
- Вот всё, что у меня осталось на память от вашей мамы, - грустно сказала она.
На фотографии, в одной из трех черноглазых девчушек, Николай узнал свою маму, такую молодую и красивую.
- Вот это – я, а вот это – ваша мама Женя Шифрина - пояснила хозяйка дома.
- Шифрина? – переспросил Николай, чувствуя комок в горле.
- Да, да, Женя Шифрина.
Семейная тайна, долгие годы державшаяся в секрете,раскрылась...
… Нахум возвращался в родные места. После Крыма, где некоторое время жила его семья, он приехал в Мстиславль. Маленький, с неказистыми деревянными домами, типичный еврейский городок, пришёлся ему по душе.
Нахум работал в колхозе, жена в доме, по хозяйству, дети – в школе. Старшая дочь Женя – молчаливая, но в учёбе усердная, подружилась с Хаей Хейфиц. Сидят за одной партой, обе мечтают стать учительницами математики.
- Почему бы и нет? – рассуждает Нахум. – Это же надо, моя дочь будет не какой-нибудь поварихой или швеёй, а учительницей! Вот что значит советская власть.
Белым цветом покрылись мстиславские сады, зазеленели яблони и груши, когда подружки решили после окончания школы уехать в столицу - Минск. И вот уже год Женя со своими подружками учится в Минске. Азимова Рыся, Диментман Рита, Хая Хейфиц и Шифрин Женя – все они студентки педагогических курсов при Белорусском государственном университете. Все вместе квартируют в доме на улице Московской. Днём – лекции, учёба, а вечером манит девчат река Свислочь, что раскинулась в центре Минска. Здесь всегда весело, многолюдно, не то, что в маленьком Мстиславле, где вечером молодежи некуда пойти. Девичьи мечты – такие сладкие.
- Окончу учёбу здесь – поступлю учиться дальше, - говорит одна.
- Я вернусь домой, - улыбается вторая.
- А я уеду в Москву, - мечтает третья.
- А мне хочется найти самого прекрасного юношу и уехать далеко- далеко, - смущенно вторит подругам четвёртая.
Смеются девушки из маленького еврейского городка. И не беда, что от стипендии остались жалкие гроши, что в доме нет даже краюхи хлеба, что чулки уже изношены, а туфли ждут ремонта – ничего, главное, что они молоды, что они красивы, а впереди у них долгая счастливая жизнь. Они так искренне верили в это...
Но грянула война – и все надежды были перечеркнуты.
В июле 41-го года немцы создали Минское гетто. Всю территорию обнесли колючей проволокой в два ряда. К началу его создания в городе насчитывалось 120 тысяч евреев. Все взрослое население гетто было обязано носить жёлтые звёзды на груди и на спине, белый лоскуток материи с чётко написанным номером дома. Если провинится хоть один его обитатель – будут расстреляны все жители дома. К зиме заставили сдать все тёплые вещи, а в августе начались облавы. Сначала мужчин, а потом и женщин увозили в неизвестном направлении. Ночные погромы стали постоянной мерой физического истребления людей.
Женя и ее подруги прошли через этот кошмар, но судьба их миловала, им удалось выжить. Через много лет Хая рассказала о том, как это случилось:
- Мы приняли решение бежать – пусть лучше нас убьют по дороге, чем оставаться в этом аду. Нужно было только перелезть через проволоку, перескочить через дорогу, где буквально через каких-то нескольких метров, ходили обычные люди. Как будто и не было войны, как будто и не было расстрелов. У них была совсем другая жизнь. Под утро, пока еще не рассвело, девушки сорвали с себя жёлтые нашивки и бросились под проволоку, к заранее сделанному проходу. Страшно было так, что казалось, сердце выскочит из груди.
- Мы решили пробираться поодиночке, чтобы не было не так заметно, что мы еврейки. Решили возвращаться в Мстиславль, - вспоминает Хая. – Плелись по дорогам, по просёлкам, избегая крупных населённых пунктов, чтобы не попасться на глаза немцам и полицейским. Под конец пути уже не шли, а ползли, не ощущая пудовых ног.
- Все в разное время пришли в Мстиславль, это я знаю точно. Но после того, как я рассталась со своими подругами в Минском гетто, больше я никого не видела, - рассказывает Хая Хейфиц.
Бывшая фронтовичка, она не любит возвращаться в прошлое, ей тяжело вспоминать те страшные дни.
Так от ее я узнал, как Женя Шифрина, родная племянница моей бабушки Сары, двоюродная сестра моего отца Давида сумела осталась в живых и добраться до родного дома.
В Мстиславле пока было тихо, но и сюда доносились слухи о зверствах фашистов, в которые никому не хотелось верить.
- Надо бежать отсюда! – ломая руки, кричала Женя.
А во двор уже входили полицейские.
- В окно! – быстро принимает решение Женя, не зря ведь она прошла минское гетто. За ней перескакивает Рахель.Как добрались до ближайшего леса – не помнит. Здесь встретили группу исхудавших красноармейцев, небритых, израненных. Девчата предложили помощь раненым, умело перевязали их.
- Никитины мы, свои, из соседнего города, - назвали сёстры фамилию соседей.
- Свои – это хорошо. Только, девчата, с нами вам будет опасно, не можем мы вас взять с собой.
- А у нас не опасно? Смотри, командир! – бросилась к командиру Рахель, которая позже назвала себя Ниной,- Посмотри, какой пожар над городом! Нам некуда возвращаться.
Так, влившись в воинское подразделение, спасли свою жизнь сёстры Шифрины, Нина и Женя, двоюродные сёстры моего отца. Рахель, пройдя войну, получив тяжёлое ранение на фронте, приедет на лечение в Астрахань, где и останется на долгие годы. Женя, как и мечтала, переехала в Москву. Беня, самый младший брат, его звали в семье Бенчик, тоже остался в живых.
- Беня, Беня, как я рад тебя видеть! – всё восклицал мой отец, и сразу же просил прощения, - Извини, никак не привыкну, что ты Ваня.
- Да что ты, Давид! Для тебя я был, есть и буду Бенчик, - отвечает ему наш гость.
Приехал он к нам в Белоруссию впервые через много лет после войны. Ожидая его, наш отец всё не скрывал своего возбуждения, своей радости.
- Брательник едет ко мне из России, Беня Шифрин, он же Ваня Новиков.
- Батя, так ведь у тебя нет ни братьев, ни сестёр – всех немцы расстреляли, - удивляемся мы.
- А Беня, мой двоюродный брат, сумел выжить.
- А почему он Ваня? Как его зовут на самом деле? – не отставали мы.
- Приедет – всё расскажет. Только будьте осторожны, тема эта для него крайне деликатная, - просит отец.
… В тот страшный день, когда старшие сёстры через окно выскочили в сад, Ваня замешкался, не успел убежать и его повели вместе с остальными на расстрел. Когда колонна стала медленно поворачиваться к Кагальному колодцу, где была выкопана яма для несчастных жертв, патрульный немец прошёл вперёд, и в ту же минуту что-то вышвырнуло Ваню из колонны, словно неведомая сила дала ему приказ свыше: «Беги!».
В последний момент посмотрел на седого Нахума, на мать. В глазах отца увидел сигнал: «Не медли! Через секунду-две будет поздно!»
Бенчик рывком бросился из колонны, за ним – кто-то ещё, потом ещё.
Вдогонку послышалась стрельба, крики. Проскочив через огороды, побежал дальше. На каком-то сеновале укрылся с головой в сено. Не хватало воздуха, невозможно было дышать, но он терпел изо всех сил - рядом гремели выстрелы, лилась кровь его родных, его друзей.
Ночью, когда все стихло, вылез из своего укрытия. Посмотрел в сторону ямы, ещё раз мысленно попрощался с родными, и, сверкая босыми ногами, побежал в сторону леса.
- Ты кто? – проснулся от грозного окрика бородача в непонятной форме.
- Ваня я, Ваня Новиков. Заблудился в лесу, - начал сочинять рассказ Беня Шифрин. А что сочинять? Всё так и есть. У него был друг, сосед Ваня Новиков. Рядом жил, вместе учились. Каждый день ходил сюда по ягоды, по грибы. А что заблудился – так и такое было не раз.
- Бери мальца, а там посмотрим, - решил бородач.
Смышленый паренек пришёлся партизанам ко двору. Уходили всё дальше и дальше, вглубь, в леса России, а потом вновь возвращались в Белоруссию, вступая в бой с небольшими силами врага.
- Ваня, ты в дозоре. Ребята минируют дорогу. Если что – стреляй, не робей, - даёт приказ командир.
Под утро Ваня ненадолго засыпает и видит чудный сон, будто все рядом, за семейным столом отец, мать, сёстры. Пришёл дядя Залман, брат Давид. Все улыбаются, шутят.
- Но этого не может быть, война ведь! – кричит Ваня и кусает себе руку до крови, прерывая свой минутный сон.
По дороге, гремя котелками, идёт немецкая охрана.
«Наши ещё не успели заложить мину, нужно их задержать» – решает мальчик. Стреляет, приклад бьёт ему по лицу, еще выстрел. Ему казалось, что он видит тех, кто вёл его на расстрел, кто убил его родных. Так было всю войну – шестнадцатилетний подросток стал мстителем, бесстрашным и беспощадным....
… Смотрят друг на друга братья и не узнают.
- Давид, какой ты молодец! Ни одной седины в волосах! – обнимает нашего отца Ваня, и тут же отводит в сторону глаза, скрывая слезы, заметив сквозь рубашку, исполосованную страшными рубцами и шрамами руку Давида.
- Был несколько раз тяжело ранен, контужен, инвалид войны, получаю пенсию, но работаю, - говорит Давид. – А ты как же, Беня? – поднимает на него глаза Давид.
- Ваня я, Давид, Ваня. А Беня знаешь где? Там, где расстреляли в Мстиславской яме мою мать, моего отца. Там остался и Беня. А Ваня Новиков прошёл через партизанский отряд, в составе действующей армии дошёл до Праги, получил боевые ордена. Понимаешь, никогда не боялся в боях, не страшился смерти. А вот сейчас боюсь признаться своей семье, кто я на самом деле. Как всё рассказать, объяснить. Боюсь рассказать жене, дочери, что я не белорус, а еврей. Что я не Ваня Новиков, а Бениамин Шифрин. Если я откроюсь – откроется и тайна моих сестёр Шифриных, которые уже несколько десятилетий Никитины. Что мне делать, как жить дальше? – сокрушенно спрашивает моего отца Ваня-Беня.
- Но ты же фронтовик, орденоносец. Даже за работу получил орден Знак Почёта. Что тебе скрывать? Ты никого не убил, ничего не украл. Так сложилось, что ты должен был изменить своё имя. Ты не один такой был – многим пришлось скрыть свое прошлое.
- Не знаю, пока не знаю, что и как говорить. Может быть, когда-нибудь сама жизнь всё расставит по местам, - подытожил Ваня-Беня.
На том и расстались.
Однако жизнь все рассудила по-иному.
Мой отец и все мы уехали в Израиль. Отсюда и посылал письмо за письмом в Гусь Хрустальный своему брату наш отец. Писал про Израиль, приглашал в гости, высылал деньги – словом, готовил к новой жизни. Одно письмо адресата не застало – умер Ваня Новиков, урожденный Бениамин Шифрин.
И всё бы на этом закончилось, если бы не письмо моего отца. Кто-то из соседей, видя, что письмо опоздало, отправил его по адресу дочери фронтовика. Ведь все здесь знали друг друга.
И тут начинается новая история.
Письмо из Израиля приходит Светлане, его открывает её сын. Но открывает не просто письмо – он открывает семейную тайну.
- Мама, мы ведь евреи? – говорит он ошеломлённой Светлане. –
- Подожди, сынок, присядь. Это возможно, какая-то ошибка, - отвечает женщина, не зная, что лучше – оставаться, как и раньше, для всех русской, или в одночасье превратиться в еврейку.
Светлана, придя в себя, потом напишет письмо моему отцу в Израиль - но это будет позже. А её сын в тот же вечер заскочил в дом к Николаю Кравцу, двоюродному брату его матери, который живёт в этом же городе.
- Дядя Коля, дядя Коля, мы евреи! – всё повторял он.
- Представляешь картину, - улыбается круглолицый, светлоглазый Николай Кравец. – Врывается мой племянник ко мне в дом, и при гостях, при посторонних, кричит: «Дядя Коля, мы – евреи!».
Ничего понять не могу. Когда гости ушли, сели за стол, взяли в руки письмо твоего отца, - говорит мне Николай Кравец, - и стали его внимательно читать.
… В окно эйлатской гостиницы, где мы впервые встретились, врываются пронзительные крики чаек. Они взлетают над морским заливом. Призывно манит жёлтый песок, а мы не можем туда идти. Мы даже не можем всё осознать, переварить, воспринять.
- Ну и что? Получили тогда шок? – спрашиваю Николая.
- Как сказать. Я только стал быстро соображать – если мой дядя Ваня еврей, то еврейки и его сёстры – моя мама и мама Саши. А значит, и все мы – и мои дети, и мои внуки, имеем какое-то отношение к совсем другому народу.
Мой отец, Златкин Давид, казалось, всю жизнь смотрел вперёд. Видел всё то, что мы не видели, не замечали. Этот среднего роста человек с огненными глазами, оставшись один, всю жизнь искал родных. Писал письма, звонил во все уголки России.
- Ааа! – отмахивался он, если вдруг мать напоминала о телефонных затратах. – Будьте умнее.
От Вани Новикова отец узнал адрес Жени, живущей под Москвой. В один из дней к ней приехала Сима, родная сестра ее довоенной подруги Хаи Хейфец .Это было почти через 50 лет после войны.....
- Всё было под покровом какой-то тайны. Приехали к нам люди, которых я никогда не знал. Я задавал свои вопросы маме, но она так и умерла, не рассказав ничего подробно о себе.
Позже пришло письма от твоего отца из Израиля. А потом я прилетел сюда, чтобы на месте во всем разобраться. Так я узнал, что моя мама в действительности не русская Женя Никитина, а еврейка Женя Шифрина,- говорит Николай, поднимая на меня свои глаза, в глубине которых я вижу грусть.
В разговор включается Александр. Он в чём-то похож на моего родного брата Сергея – такой продолговатый овал лица.
- Да, они схожи, - соглашается со мной Николай, сравнивая фотографии Сергея и Александра.
Александр достаёт из чемодана белый ватман бумаги, на котором – наше семейное древо.
- Вот смотри: Нахум Шифрин – это мой дедушка. У него было 2 сестры: Стера и Сара. Стера вышла замуж за Льва Синичкина, Сара – за твоего деда Залмана Златкина. Их дети все – Шифрины, Синичкины, Златкины – они двоюродные. Из Златкиных остался один твой отец, из Синичкиных – четверо, из Шифриных – трое. Все они – двоюродные. А мы – троюродные. Мы – троюродные братья! Мы нашли друг друга более чем через 40 лет !Мы обнимаемся – я и двое моих русских братьев - Николай Кравец и Александр Никитин.
- И ты 40 лет совершенно не подозревал, не знал, кто ты?
- Подозревал, но не был уверен.. Хотя… сейчас я думаю – откуда у меня такая предприимчивость? Я ведь, как-никак, занимаюсь бизнесом – строю, продаю, - улыбается Николай, инженер-строитель по образованию.
А эйлатский вечер так хорош! Но мы его не замечаем, не можем расстаться, наговориться за всю прошедшую жизнь. Николай словно впервые видит фотографию своей мамы, на которой она такая красивая, нарядная.
Александр всё никак не может осознать – у него теперь столько родных! А я будто вижу радостную улыбку своего отца. Он не только прожил достойнейшую жизнь, но и перед самым её концом совершил подвиг – вернул к родным еврейским корням найденных им племянников, внуков. Для него ведь никогда не было разницы, кто они – родные, двоюродные, троюродные.
В каждом он видел родного человека.
А еще мне кажется, что я вижу свою бабушку Сару. Как знать, может быть, душа ее почувствовала с небес, а может быть, и увидела, эту встречу- встречу ее внука с внуками его родного брата. Жизнь продолжается...
Глава сорок первая. У озера (взгляд через годы)
Широкая автострада уводит все дальше и дальше от Берлина в сторону Потсдама. Мой путь - на живописный остров Ванзее. Это такое же дачное место в Берлинском пригороде, как искусственный остров Серебряный Бор в Москве. Ваннзее всегда был престижным местом отдыха для берлинцев. Замечательный пляж, шезлонги, солнце, прогулочные катера. Однако этот райский уголок имеет мрачное прошлое и навсегда вошел в историю, как место проведения т.н. «конференции в Ваннзее».
Гроссер- Ваннзее 54-56. Вхожу через железную калитку с охранником. За широким сквером в окружении вековых деревьев большая помпезная вилла, возведенная в начале 20-го века. Здесь во время нацизма был размещен засекреченный институт по изучению стран Восточной Европы. Когда начались интенсивные бомбежки Берлина, именно сюда переехал штаб Главного управления имперской безопасности. Именно по коридорам этого особняка ходили в свое время самые зловещие фигуры агонизирующей верхушки гитлеровской Германии.
А еще раньше, 20-го января 1942 года, в этом здании руководитель РСХА Гейндрих собрал 15 высших нацистских чинов для обсуждения окончательного решения еврейской проблемы в Европе. С немецкой педантичностью были составлены планы уничтожения евреев в каждой, отдельно взятой стране.
Всё подсчитали, кроме одного – сколько можно собрать предателей и ненавистников евреев на белорусской земле. Иначе не нужно было готовить столько карательных экспедиций, а достаточно было иметь одного-двух немцев для организации расстрелов. А исполнители – их можно было найти немало среди местного населения. Все начиналось здесь, а продолжилось... по всему миру. И среди множества мест облитых еврейской кровью... Михалин, Климовичи...
"Белоруссия-партизанка" - так любили её называть после войны. Партизаны были, но вся ли Белоруссия встала на борьбу с фашистскими захватчиками?
Да, были отряды, только после войны данные об их количестве были значительно преувеличены. Большинство населения старалось приноровиться к новым хозяевам и, уж тем более, мало заботилось о спасении своих еврейских сограждан.
В конце 80-х годов я как-то оказался на встрече участников партизанского отряда № 45, которым командовал генерал Владимир Иванович Марков. Выехали на место дислокации отряда, где-то под деревню Савиничи. Здесь за прошедшие десятки лет практически ничего не изменилось. Те же деревья, те же тропинки, даже осевшие землянки все также разбросаны по всему лесу.
- Владимир Иванович, кто из партизан мне может рассказать о войне с точки зрения рядового бойца? – обратился я к генералу.
- А ты посмотри, кто меньше всех кричит о своих подвигах - тот и настоящий боец-партизан. А те, кто горланят сейчас, мол, «мы воевали, мы фрицев громили!», вот тех загоняли в отряд под дулом винтовки. У них не было выхода: или стать полицаем и заработать пулю от партизан, или самому уйти в партизаны.
Да, Белоруссия – это не Дания, и не Голландия. Там все население, начиная с короля и кончая портовыми рабочими, проявило солидарность со своими еврейскими согражданами. Конечно, и в белорусских селах и городах нашлись праведники, которые рисковали жизнью своих семей, спасая евреев, но их было ничтожно мало.
В последнее время, все чаще звучат голоса о связи между Холокостом и созданием государства Израиль. Авторы подобных публикаций утверждают, что евреи получили главную компенсацию за перенесенные страдания во время войны в виде согласия сильных мира сего на создание национального очага для народа, понесшего столь жестокие потери.
Мне страшно поверить в то, что моя семья обрела свою историческую Родину благодаря пролитой крови моих родных и еще тысяч загубленных жертв по всей Белоруссии. Мне трудно принять эту новейшую доктрину современных историков, которая протягивает некую связующую нить между принятием в январе 1942 года решения о повсеместном уничтожении евреев по всей Европе и существованием того маленького клочка земли, крошечной точке на карте мира, который дал, наконец, возможность каждому еврею почувствовать себя гражданином СВОЕЙ СТРАНЫ. А ВАМ?...
Глава сорок вторая. Встреча через 20 лет
 Прошли годы...
Прошли годы...
Жаркое, изнуряющее солнце остается за иллюминатором самолета Тель-Авив – Минск. Приветливые голубоглазые стюардессы встречают у трапа воздушного лайнера.
Через некоторое время самолет быстро разбегается по бетонной полосе и, резко оторвавшись от нее, сливается с черной полоской неба. Внизу – синева Средиземного моря. Еще один прощальный круг над израильской столицей, и снова сотни тысяч огней, разноцветных гирлянд засверкали внизу.
Удивительное зрелище – ночной Тель-Авив с высоты полета самолета! Не один раз, улетая из Израиля и возвращаясь обратно, я удивляюсь этому фантастическому зрелищу, восторгаюсь красотой нашего "города без перерыва", вечно бурлящего, такого разноликого, многоязычного, никогда не унывающего.
Впереди меня ждала встреча с моим прошлым – какой она окажется после стольких лет разлуки?
- Саба, ата митрагеш (Дедушка, ты волнуешься)? - все спрашивал меня мой самый младший внук Вениамин, голубоглазый израильтянин, чемпион Израиля, в своем возрасте, по дзю-до.
Что я мог ему ответить?
- Конечно, да.
Белоруссия – сколько связано с этой землей, как много воспоминаний, грустных и радостных связано с этим местом на земле, на которой я родился и вырос!
Самолет, набрав высоту, взял курс на Минск. Темная, прохладная ночь, редкие огни аэродрома, лужицы под ногами…
Еще несколько сот километров – и вот он, мой старый дом в моем родном городке. Через 20 лет я вновь вернулся в Климовичи.
С трепетом я открываю калитку, попросив разрешение у светловолосой хозяйки – внучки хозяина, купившего у нас дом.
Вхожу, надеясь увидеть, найти хоть что-то знакомое, родное и близкое. Ничего не изменилось! Даже старый умывальник все также прислонен к забору. Исправно качает воду колонка, которую мы сделали во дворе незадолго до отъезда в Израиль. Помню, как радовалась ей мать, когда по резиновому шлангу побежала через форточку вода. До этого ей десятки лет приходилось носить ее из колодца.
Разбросала свои ветви та самая яблоня, где когда-то под маленьким деревцем мои младшие братья Яков, Сергей, Григорий, Лев написали письмо в 2000 год. Нам хотелось узнать, кто его прочтет, какими мы станем через десятилетия?
В своих мечтах мы даже не могли представить, что это письмо нам не суждено будет прочесть. В январе 1990 года первым уедет в Израиль из Тбилиси Григорий, в мае - из Сухуми Сергей, в ноябре - я со своей семьей и родителями, в марте 1991 года - Лев из Рославля, еще через два года - Яков из Перми. Параллельно с нами, в конце 1990 года вылетели из Белоруссии трое двоюродных братьев моей жены Хамышкиных - сыновья белорусского журналиста Матвея Хамышкина. Из Украины - двое двоюродных братьев жены Игорь и Михаил Фрадкины, из Белоруссии - две ее сестры с одинаковыми именами Маара, с детьми и родителями своими и родителями мужей, из Москвы - семья Рувинских. Громадное пополнение прибыло из Тбилиси. Мой двоюродный брат Александр Чашкин прилетел из Минска. Родной брат и сестра моей матери– Абрам Хенькин и Раиса Капланская со своими детьми прибыли из Белоруссии.
Не только родные, но и знакомые один за другим репатриировались в Израиль в те далекие девяностые - и многие останавливались в нашем доме. Поистине, только на примере нашей семьи видно, что это действительно была БОЛЬШАЯ АЛИЯ, как принято теперь называть массовый приезд советских евреев в 1990 году.
С маленькими детьми, с больными и немолодыми родителями со всех сторон бывшего Советского Союза мы летели навстречу неизвестности, навстречу трудностям и таким, о которых даже не подозревали. В нашей семье мы не думали уехать ни в Америку, ни в Германию, ни в Австралию…
Только в Израиль мечтал попасть наш отец всю жизнь. Выбор нами любой другой страны был бы нашим предательством по отношению к нему…
Я вхожу в сад, бывший сад своего отца. Вот здесь, на месте старой груши, которой уже нет, летом 1989 года мы мечтали о будущей репатриации.
И вот сейчас, вернувшись сюда через 20 лет, я словно снова слышу наши споры, голоса отца, матери, братьев. Много лет, уже в Израиле, мне снилось, будто я в родном отцовском доме. "Почему вы здесь? Ведь все давно уже уехали, а вы остались одни", – все говорил я и говорил своим родителям во сне.
Мой сон сбылся – я здесь один, вдали от всех, вдали от Израиля. И мой бывший, такой родной и любимый дом, меня больше не удерживал, он как будто говорил мне: "Возвращайся к себе, в свою страну, в свой новый дом, а я буду хранить память обо всех вас".
Поселок Михалин, теперь только своими бывшими еврейскими домами напоминает о своей прошлой связи с евреями. Вроде и дома те же, и улицы, но все кажется чужим и незнакомым. Евреи разъехались, остался только Михаил Злобинский, сын Зинки-белорусски и еврея – фронтовика.
Высокий, мускулистый, с руками белоруса и отцовским носом с горбинкой, он растерянно теребит свою рубашку, не зная, что сказать при встрече с неведомо откуда приехавшим заморским гостем.
А здесь все бывшее. В бывшем еврейском поселке – новая жизнь, с новыми хозяевами. Да и поселка по существу нет- есть продолжение улицы Советская. На бывшем нашем доме табличка- улица Советская, 108. Бывшие еврейские дома Ошеровых, Любан , Резниковых. Черновых, выходящие окнами в сад, поблекли и покосились. Такие же они и в городке Климовичи, что в двух километрах от Михалина - дома семей Лейтусов, Каспиных, Козловых, Хайкиных, Песькиных, Кац, Стукало, Кукуй, Мархасиных, Гольдберг, Ошеровых……
Но все-таки что-то осталось в них от прежних хозяев. Особенно, когда смотришь в окна. Кажется, это не окна, а глаза, еврейские глаза. Глаза грустные и все понимающие. А почему они грустные? Так ведь расстались они с нами навсегда…
Глава сорок третья. Вместо послесловия
Две жизни Давида Златкина
Наш отец Давид Златкин в последние годы жизни в Израиле не единожды был вынужден проходить лечение в различных больницах – старые фронтовые раны давали о себе знать и через много лет после окончания войны.
Держался он мужественно, как и подобает старому солдату, всегда всем улыбался - врачам, медсестрам, нянечкам. Никогда ни на что не жаловался, старался изо всех сил не показать виду, как ему тяжело переносить сильнейшие боли. Этот человек обладал такой внутренней силой, что все мы, его родные, были уверены, что он сможет победить болезнь и обязательно наступит тот день, когда он покинет больничную койку и вернется домой.
Так и произошло - наш Батя и на этот раз вышел победителем в очередной битве, на этот раз за продление собственной жизни.
Он понимал, что это ненадолго, сердце старого солдата уже не могло биться, как прежде, но для него был важен каждый выигранный у смерти день. Он должен был завершить начатое дело, он чувствовал себя посланцем всех тех, кто во время войны был расстрелян, погиб в гетто и лагерях, принял мученическую смерть в городах и селах Белоруссии от фашистских захватчиков и их местных подручных.
Отец спешил записать все, что помнил, изо всех сил пытаясь заполнить как можно больше анкет для музея Яд ва-Шем.
Этим он начал заниматься еще в Белоруссии, а к моменту приезда в Израиль у него уже была собрана увесистая папка с документами и именами погибших.
В Израиле постоянно переписывался и созванивался с бывшими земляками, порой с просто случайными знакомыми, постоянно пополняя все новыми и новыми именами свой поминальный реестр.
После смерти отца я обнаружил увесистую стопку анкет, которую он не успел отправить в Иерусалим, а среди них, его собственные записи – свидетельства еврейского солдата, очевидца трагических событий прошлого.
Давид ЗЛАТКИН (воспоминания)
Страшная память
 Климовичи - обычный белорусский городок, в основном населенный евреями. В самом городе и в прилегающих местечках проживало до войны около 10 тысяч евреев.
Климовичи - обычный белорусский городок, в основном населенный евреями. В самом городе и в прилегающих местечках проживало до войны около 10 тысяч евреев.
После войны никто не вернулся ни в местечки, ни в белорусские деревни. Бывшие соседи захватывали еврейские дома и даже, если бы кто-то и захотел вернуться, их бы просто не пустили даже на порог бывшего дома.
Самое страшное – это предательство своих же, местных, которые перед приходом советских войск, добивали тех евреев, что сумели спастись при немцах.
В семье родной сестры моего отца Хаи Муньковны, по мужу Бедеровой, было 6 детей. Все они погибли от рук полицаев. Самой Хае каким-то чудом удалось спастись - нашлись добрые люди, спрятали обезумевшую от ужаса старую женщину. Долгими днями она сидела в каком-то подвале, а когда стали слышны артиллерийские залпы наших войск с трудом выползла наружу. Тут-то ее и догнал сосед:
- Ты куда, Хайка?
Снял винтовку с плеча и выстрелом в спину убил ту, с которой долгие годы жил рядом.
Когда каратели появились в местечке, Этка Потапова попыталась было спрятаться в соседнем сарае, но сосед вытащил ее и вытолкнул на улицу - иди к своим! Этка все-таки сумела убежать, прошла все круги ада. Как сумела выжить – сама не понимала, до конца дней так и не смогла забыть тот пережитый ужас.
Дочь Этки Аня Потапова живет на юге Израиля, а сын Михаил после войны стал директором школы в Климовичах. Он часто приезжает в Израиль, где живет его сын и внуки.
Когда я в мае 1944 года вернулся с фронта домой, в Климовичи, линия фронта проходила под Кричевом, меньше, чем в 30 километрах... Город стал другим, чужим и враждебным. На местном рынке одна из торговок, увидев меня, презрительно бросила своей товарке:
- Глянь, жыдок вернулся!
Еще тяжелее было возвращение в Михалин – от бывшего еврейского местечка остались одни руины. Вся моя семья погибла, осталась только Стэра – ее спасло чудо.
Моя двоюродная сестра, черноглазая красавица Бася, вместе с женихом, беженцем из Польши, покоятся на дне силикатного карьера. От рук фашистов и их местных подручных – полицаев, нашли свою мученическую смерть родные сестры моей мамы Лея, Пеша и брат Нахум.
Моя бедная мать, одна с маленькими детьми на руках, не успела никуда уехать – их постигла та же страшная участь. Ей было всего 37 лет...
В последний вечер перед уходом на фронт, а это было 13 июля 1941 года, меня все время обнимала моя младшая сестренка, двухлетняя малышка Ханеле. Она плакала, не хотела оторваться от меня, прижимаясь всем своим крохотным тельцем, словно предчувствуя, что нам больше не суждено увидеться, что впереди у нее – страшная, мучительная смерть.
Когда я уходил на фронт, моей сестре Злате было 15, а брату Муне всего 11. До сегодняшнего дня я не могу уснуть ночами, все хочу вспомнить их лица и не могу... Lקןאגטדא
Лучший математик школы, добрый ласковый мальчик. Очевидцы тех кровавых событий позже рассказывали, что когда полицаи ворвались в дом, он бесстрашно бросился на одного из них и вырвал клок из бороды, но, сразу же, получил тяжелый удар прикладом.
Мой двоюродный брат Арон Златкин, в те страшные дни, выйдя из окружения, добрался домой и спрятался на вершине старой березы в гнезде аиста. Он видел, как выгоняли из домов его родных и всех других евреев Михалина, как мучили и издевались над ними.
Старший лейтенант Арон Златкин сумел вернуться в действующую армию и отомстить за безвинно пролитую кровь своей семьи. Он погиб в 1943 году в бою под Гродно.
Сохранились свидетельства очевидцев гибели евреев в Климовичах. Несчастных загнали в городской сарай, а на следующий день по группам из 10 человек, подгоняли к заранее подготовленной яме, в которую сбрасывали всех расстрелянных, даже если кто-то из них был только ранен и молил о пощаде. Но местные полицаи, которые и осуществляли это зверство, не щадили никого, даже маленьких детей. Когда яма была переполнена тела убитых, расстрелы продолжили над силикатным карьером – это стало местом второй братской могилы.
Я один из немногих михалинцев, кто сумел выжить в то военное лихолетье. Воевал под Москвой, потом на Ленинградском фронте. Там никого не интересовало, какой ты национальности – все мы были солдатами, все, плечом к плечу боролись за освобождение нашей Родины. Евреи были и в командном составе – комиссар дивизии полковник Басин, начальник политуправления Арон Захарович Росинский, лейтенант Нехамкин, диспетчер Эмдина, комбаты Китайгородов и бухарский еврей Абдурахманов, военврач Пайкин.
В Израиле живет дочь легендарного еврея Зелика Суперфина, в годы войны, будучи председателем колхоза в селе Милославичи, спавшего своих соплеменников. Несмотря на недовольство других колхозников, он сумел выбить для каждой еврейской семьи лошадь и помог уехать в тыл перед самым приходом немцев. Он всегда был мужественным человеком, недаром до войны не побоялся организовать домашнюю синагогу, где собирались все местные евреи. За такое в то время могли и с работы снять, но Зелик никого не боялся и дал нам возможность уже в то далекое время прикоснуться к нашим истокам, почувствовать себя частью древнего народа, с которым надеялись когда-нибудь воссоединиться.
Фаина Маневич, сельская учительница, чудом спаслась, сама не понимала, как сумела уговорить конвоира отпустить ее. Через лес вышла к какому-то глухому селу, где тяжело батрачила за кусок хлеба. Только после войны в селе узнали, что она - еврейка, спасшаяся от расстрела. Ходили слухи, что легендарный разведчик Лев Маневич, который был родом из соседнего города Чаусы, приходился родственником нашей Фаине – кто знает, может быть, героизм и бесстрашие было в крови этой еврейской семьи.
В израильском городе Араде живет внук Фаины со своей матерью, женой Иосифа Маневича – сына Фаины.
Война закончилась, оставив в наших душах незаживающие с годами раны. Но надо было продолжать жить дальше, превозмогая боль и горечь потерь. Михалин постепенно оживал. Стали возвращаться с фронта бывшие воины, вернулись эвакуированные и просто евреи изо всех окрестных сел, потерявшие своих родных в огне войны и пытавшиеся найти новое пристанище среди своих соплеменников.
Новым председателем колхоза назначили Исаака Лайванта, чьи сыновья, боевые офицеры, испытали на себе всю тяжесть военного лихолетья. И вновь добрая молва пошла о еврейском колхозе "Энергия" по всей близлежащей округе.
Непонятно каким образом, не имея ничего за душой после всех этих страшных лет войны, эти удивительные люди сумели собрать нужную сумму для покупки первых лошадей. Собирали всем миром, каждый колхозник отдавал последнее, что каким-то чудом сумел сохранить на черный день – но начало было положено, деньги были собраны и Зяма Любан, больше жизни любивший лошадей, поехал за ними в Западную Белоруссию.
Прошло несколько лет и стали укрупняться колхозы. Михалинсий соединили с соседним колхозом имени Карла Маркса. Местные евреи были очень горды новым названием, как - никак, еврей, пусть даже и крещеный.
Бригадиром долгое время был старший лейтенант Ела Стукало, родители которого были расстреляны, а двое братьев погибли на войне. Пройдут годы, и я встретился с ним в Израиле.
Евреем был и бессменный заведующий молочно-товарной фермы Малах Ошеров - он на ней дневал и ночевал. Бывший председатель довоенного еврейского колхоза, он был предан колхозному движению больше, чем родной семье. Не заметил даже, как дети выросли, да какие дети! Один сын – полковник, второй дослужился до звания генерал-лейтенант. Трое дочерей Малаха живут в Израиле, внуки служат в израильской армии – жива семейная традиция Родину защищать.
Каждая спасшаяся еврейская семья - это чудо. А каждая семья, успевшая вернуться к своим корням, к своему народу на земле Израиля – чудо вдвойне.
Польский еврей Зяма Штерн воевал сначала в рядах польской, а затем советской армии. С трудом говорил по-русски, был измученным, болезненным после перенесенных ранений. Одинокий солдат нашел теплое пристанище в колхозе " Энергия", там же познакомился со своей будущей женой, хохотушкой и плясуньей Ханой Азимовой.
Все дети Зямы и Ханы, их внуки и правнуки живут в Израиле. До войны семья Зямы жила в Варшаве, держала большой магазин. Его сын Гриша не оставляет надежду их разыскать - как знать, может быть на земле Израиля им когда-нибудь удастся воссоединиться.
В самом начале Михалина стоял дом колхозного кузнеца Резникова, рачительного хозяина, отца большого семейства. Его дети и правнуки тоже живут в Израиле.
Мое родное местечко, где все мы жили, будто одной семьей. Вырастали дети, уезжали в большие города, и уже их дети становились настоящими москвичами, бакинцами, ленинградцами, рижанами, порой забывая, откуда они родом.
- Местечко, - как-то в Израиле презрительно отозвался один из таких, потерявших память "москвичей", про моего боевого товарища. Узнав, обидчик приехал из Москвы, я поинтересовался, откуда родом его родители. А дальше выяснилось, что и москвич, и мой боевой друг оказались родственниками!
В приморском израильском городе Нетания живут потомки слепого Исайи Новикова. Тяжелую жизнь прожил Исай, с трудом поднял на ноги троих сыновей. Если бы он мог тогда знать, что из михалинского колхоза протянется долгая дорога в Израиль для его детей и внуков!
Янкель Персин, ночной сторож, мало видел радости в жизни. Четверо его детей, как могли, помогали отцу и матери и в колхозе, и по дому - ко всему были приучены. Но дети выросли, словно птицы, разлетелись кто куда. Прошли годы, сыновья умерли, а дочь Броня Персина, оставив престижную работу экономиста областного управления, уехала с дочерью и внучкой в Израиль.
До войны во всех городах были еврейские школы. Была такая школа и в Климовичах, там все занятия проходили на идише. Ее еще называли "Еврейской академией Лейтуса" – по имени первого (и единственного) директора Меира Лейтуса.
Все ученики Меера ушли на фронт, а их родители разделили жестокую участь белорусских евреев. С войны вернулись единицы, а Меир, сам воевавший, с изувеченной рукой после тяжелого ранения, до конца дней руководил школой рабочей молодежи – еврейской школы уже не было, учиться было некому. И вновь, школу Лейтуса стали называть "Академией Лейтуса", только вот еврейской она уже никогда не могла стать.
Сын нашего местного еврейского просветителя Иосиф Лейтус сегодня преподает в одном из ведущих университетов Израиля. Дочери Меира тоже живут в Израиле, одна из них ведет религиозный образ жизни, а другая – известная активистка общественных движений.
Судьба занесла в Климовичи израненного, измученного польского еврея из Люблина Моше Бекермана. Его близкие погибли в Освенциме а сам он чудом убежав из гетто, ушел воевать к партизанам.
В Климовичах сблизился с семьей мастера - строителя Кубышки, да так и остался у них жить. Один из его братьев в 1939 году уехал в Палестину. Прошли годы, и свершилось чудо - братья встретились в Израиле. Я рад, что случилось это с моей помощью.
Бессменным начальником цеха на Климовичском заводе металлоизделий был Исаак Генькин. Сменялись директора, главные инженеры, а он продолжал работать на своем месте многие десятилетия. Исаак очень гордился своим отцом – тот до войны был кассиром в банке. Когда началась война, этот скромный еврей совершил настоящий подвиг – под бомбежками вывез в тыл целую машину денег.
Помню, пораженный этим фактом, я пришел к старику в военном кителе, в сапогах, с постоянной фуражкой на седой голове. Даже мне не верилось про тот рейд по дорогам войны с банковскими деньгами. Седой ветеран мне грамоту, где было четко написано, что именно он, Залман Генькин, передал в российский банк в тылу громадную сумму.
- Не было страшно под бомбежками,- спросил я у него.
- Так всех бомбили!
- А не было желания взять деньги и скрыться?
- Да как же я мог тогда вернуться после войны домой, посмотреть в глаза своим детям? – искренне удивился старый еврей.
Когда про эту историю было рассказано в газете, многие удивлялись, мол, ну и простофиля же этот Залман! Можно было скрыться с миллионами, где угодно. Россия - велика, а война все бы списала.
По себе видно, судили, а Залман, вернувшись в свой город, в свой банк, продолжал, как и прежде, в нем работать. Как только выдавалась свободная минута – спешил к братской могиле, где с другими евреями Климовичей были погребены его расстрелянные родные.
Дети Исайи, внуки и правнуки Залмана, тоже строят свою жизнь на израильской земле.
Все они наследники истории еврейских местечек, навсегда исчезнувших, но оставшихся в нашей памяти, порой страшной, невыносимо тяжелой – но это наша история. И пока мы живы, пока будут жить наши дети, внуки, правнуки – не исчезнет память о тех, кто был безжалостно уничтожен только за то, что был ЕВРЕЕМ.
Моя жизнь была нелегкой, но я ее прожил, как мог. Я был частью своего времени, тем поколением, на долю которого выпала война - самая кровавая в истории человечества. Но самое страшное, что мне пришлось пережить, что сопровождает меня всю мою жизнь – это боль потери моих родных, которых погубили так безжалостно, бесчеловечно. Сколько буду жить – не прощу тем извергам, которые подняли руку на безвинных жертв только за то, что они принадлежали к древнему, веками гонимому народу. Как мне было трудно жить, видя вокруг тех, кто не только не защитил мою семью, но и сам был пособником карателей!
Я знал этих людей, они ходили со мной по одним и тем же улицам, некоторые сумели хорошо устроиться, стать большими начальниками. Я честно воевал, был ранен, а они в это время прислуживали оккупантам – но что я мог сделать, если в наших маленьких местечках уже царили другие законы, все были повязаны общей виной перед евреями, так что взывать к справедливости было не к кому.
И я просто жил, выполнял свою нехитрую работу и мечтал, что когда-нибудь те знания, которыми я самоучкой овладел и всеми силами пытался передать своим сыновьям, помогут им достичь в жизни тех вершин, на которые мне так и не удалось взобраться. У меня оставалось только одно желание – дожить до того дня, когда советские евреи смогут свободно уехать в Израиль. В 70-80 годы единицам из наших мест удалось это сделать, я лично не знал этих людей, но слухи о них доходили и до нашего маленького городка. Вокруг был большой мир, он менялся, происходили какие-то события, которые впоследствии окажут огромное влияние на весь ход новейшей истории – а мне, с моей жаждой новой жизни, с тем огнем, который клокотал в моей душе, приходилось продолжать жить в маленьком, уже совсем не еврейском местечке и ждать, надеяться, мечтать ... и верить!
И это день настал – 13 ноября 1990 года началась моя новая жизнь,.
Глава сорок четвертая. Из записок Григоря Златкина, сына Давида
Граф Монте-Кристо из Михалина
Больничный дворик, вокруг тишина, только где-то внизу, на трассе, бурлит жизнь - люди ссорятся, мирятся, порой обманывают друг друга, любят и ненавидят, пытаются найти признание у чужих людей, подчас забывая лишний раз навестить своих близких.
...Когда входишь в эти серые больничные палаты, понимаешь, что нужно ценить каждый день, каждую секунду, отведенную тебе судьбой для того, чтобы быть среди своей семьи, видеть все прощающие и любящие глаза отца и матери.
Мне перевалило уже за пятьдесят, но до сих пор, наивно, по-детски, продолжаю верить, что главное в жизни - радоваться каждому прожитому дню самому и доставлять радость окружающим тебя людям, ведь никому не дано знать, когда наступит его последний день и уже ничто нельзя будет изменить.
Так думал я, сидя во дворе больницы, собираясь с силами перед входом в палату, где лежал мой умирающий отец - там полновластной хозяйкой была смерть, там она притаилась, выбирая себе очередную жертву.
Я вспоминал своих родителей в ту пору, когда мы жили в Михалине - белом от цветения вишен маленьком городке. У каждого был свой, маленький мир.
Мир мамы – вечные заботы по дому, нелегкая работа учительницы начальных классов, стопки тетрадок для проверки, каждодневные сложные вопросы, как накормить семерых мужчин в доме. И мир отца, как мне тогда казалось, бывшего не от мира сего – его никогда не интересовали бытовые проблемы. Он никогда не был похож на других - не сумев сам достигнуть желаемого, старался передать свою мечту нам, своим сыновьям, воплотить в нас свои представления о другой, яркой жизни в том большом мире, в который ему так хотелось попасть, вырваться из этого маленького местечка, где ему, бунтарю по натуре, было тесно и душно.
Он постоянно с кем-то и за кого-то воевал, никогда ни перед кем не склонял голову, не подлаживался под обстоятельства – так он, возможно, чувствовал себя местным графом Монте-Кристо, о котором с таким наслаждением часто рассказывал нам, своим детям.
Сегодня все мы, благодаря его вере и постоянной поддержке, образованные, хорошо устроенные в жизни, перед нами открыт весь мир, а он - старый и больной, не понятый до конца даже своими близкими, вечный борец за всеобщую справедливость, лежа на больничной койке, между жизнью и смертью, продолжает вести очередной бой.
" Счастлив муж, который не ходил на совет злоумышленников, и на пути грешников не стоял, и на посидалище насмешников не сидел" – эти слова из книги псалмов как будто про него, про моего отца.
Глава сорок пятая. Я куплет допишу...
Памяти Льва Златкина
 Наш младший брат Лев никогда не писал стихи. Выпускник физмата, он по натуре был, как говорят, физик, а не лирик...
Наш младший брат Лев никогда не писал стихи. Выпускник физмата, он по натуре был, как говорят, физик, а не лирик...
Но, когда умер наш отец, Давид Златкин, у Льва стали рождаться такие строки, что их глубине, жизненной мудрости можно было только удивляться. Стихи брата шли от сердца, от боли, от безысходности, от чувства тяжелой потери.
В 16 лет, окончив школу, он стал студентом физмата педагогического института. Был, видимо, самым юным студентом вуза. Окончив институт, не выбирал место работы, стал учителем математики в сельской школе, куда его направили. Хотя мог остаться в областном центре, в родном городе – математики всегда нужны, но он не искал легкой жизни, ни к кому не обращался за помощью, а улыбался и радовался жизни, первому учебному году.
На одной из учительских конференций, по истечению 3-х лет работы на селе, выступил с предложенным докладом. На второй день его, ранее неизвестного сельского учителя, выросшего в простой еврейской семье, направили директором крупной городской школы – той самой, в которой он когда-то учился сам.
Весь коллектив школы принял его как родного, и хотя теперь его бывшие учителя оказались у него в подчинении, никто этому не противился – молодой директор вызывал всеобщую любовь и уважение.
Это было радостное время для молодого руководителя, для преподавателей, для учеников. Я помню, как в эту школу стали приглашать на вечера чествования учителей-пенсионеров, которые давно уже были забыты. Помню, как на различные торжественные вечера были приглашены новых фронтовиков, которых раньше никто не знал. Прежние "свадебные генералы", которых раньше приглашали в школу, это восприняли очень болезненно.
- Победу ковал весь народ, и мы должны чествовать всех, - говорил новый руководитель.
Много было творческих помыслов об улучшении учебного процесса, связи с родителями и бывшими учениками. И вдруг... Повестка в армию. До Льва четверо братьев уже отслужили, а самый младший, работая в селе, имел освобождение от службы. Но как только он перешел работать в город, сразу потерял былую льготу.
 Для того, чтобы не идти в армию, он мог бы снова вернуться в сельскую школу, или обивать пороги кабинетов высоких чиновников города. Однако сын фронтовика, он посчитал это слишком унизительным для себя.
Для того, чтобы не идти в армию, он мог бы снова вернуться в сельскую школу, или обивать пороги кабинетов высоких чиновников города. Однако сын фронтовика, он посчитал это слишком унизительным для себя.
В армию, так в армию! В учебном подразделении наш брат был самым старшим из всех курсантов по возрасту, но самым маленьким по росту. Но вскоре на всех строевых смотрах он стоял впереди всех, как заместитель командира взвода, как старший сержант. Это был уже четвертый старший сержант в семье после отца.
Лев не только успешно окончил учебное подразделение, но и был оставлен здесь, чтобы в родной "учебке" обучать будущих командиров. А он в одном лице – и учитель, и классный армейский специалист.
Когда белым снегом запорошило гарнизон, я в один из январских дней приехал к нему вместе с матерью. Уверенным шагом он вышел нам навстречу. О трудностях, которые пришлось пережить, не вспоминал. Больше говорили о будущем. Как исключение, нас поселили в гостинице воинской части. Это было впервые. Командир части пришел к нам специально, чтобы с нами познакомиться.
- У Льва большое будущее, пусть только останется в армии, - все уговаривал он его при нас.
Брат все улыбался, ведь он мечтал вернуться домой, в родную школу... До армии он не успел познакомиться ни с одной девушкой – не до этого было. Учеба, работа, а теперь и служба. Только мать все высматривала его в окне, в ожидании самого последнего солдата в семье, да маленькая племянница Женя. Родная школа на-ура встретила директора, но его место уже было занято другим. Лев не захотел бороться за свое место – таким уж он был человеком. Возможно, он ощущал глубокую боль в сердце, ведь сколько планов строил, сколько мечтал о своей работе, все думал, как ее изменить к лучшему. Не унижая себя разборками чиновниками за потерянное директорское кресло, он стал рядовым учителем математики. Чуть он позже он получил назначение на должность инспектора райотдела народного образования.
Я помню, с каким воодушевлением он посещал школы города и района. Это был действительно творческий период его жизни. Он учил методике преподавания математики намного более старших его по возрасту преподавателей, всегда доходчиво разбирал их уроки, перенимая у них, в свою очередь, практический жизненный опыт.
А вскоре Лев переехал в соседний город Рославль, что на Смоленщине, где снова возглавил среднюю школу. В этом городе он встретил свою любовь – девушку Аллу. Здесь у них родились дети – Эли и Яна.
С работой было все прекрасно, в жизни все складывалось у молодой семьи успешно, но его уже ждал Израиль. Там уже жили родители и четверо братьев. В феврале 1991 года Лев и Алла с маленькими детьми-дошкольниками прилетели в Израиль.
Начинал, как многие вчерашние интеллигенты, оказавшиеся в новой действительности без знания языка, без связей и поддержки. Вчерашний директор городской средней школы переквалифицировался в уборщика торгового центра – но ничего зазорного для себя в этом не видел. Но никогда не расставался с книгой по изучению иврита.
- Что ты мне за работника привел,- набросился на меня смуглолицый Эли, типичный представитель восточных общин, ответственный за уборку в каньоне. - Зашел в туалет, а твой брат с книжкой в руках, вместо половой тряпки!
На второй день мой брат был уволен, а через день.... ему пришло приглашение на работу в одну из городских школ Реховота – небольшого города в центре Израиля.
- Такого карьерного взлета у меня еще не было - из уборщика в учителя математики,- шутил Лев
И в Израиле, так же, как когда-то в прошлой жизни, он стал не просто учителем - любимым наставником.
Когда с ним случилось несчастье, FACEBOOK был просто взорван воспоминаниями о нем его многочисленных благодарных учеников. Даже не верилось, что молодые люди, в большинстве своем коренные израильтяне, могут так трогательно, так от души рассказывать о человеке, который был их учителем. Для них он был УЧИТЕЛЕМ, мудрым и заботливым.
Таким он и останется в памяти тех, кто его знал и любил. Прошел год после смерти нашего брата. И как в день прощания с ним, так и на этот раз снова весь его бывший класс пришел почтить память своего любимого учителя. Что-то несправедливо в этом мире, когда раньше времени уходят из него такие необычные люди. Девушки-старшеклассницы обняв друг друга, не могли удержать своих слез. По существу, чужие ему люди плакали, страдали, как родные. Не одна, не две, а все. Я такого никогда раньше нигде не видел. А потом они все рассказывали и рассказывали о Льве, у которого было удивительное сердце, но такая короткая жизнь. Сегодня предлагаем вам несколько стихотворений, которые вам помогут лучше узнать душу и сердце нашего Льва, память о котором будет жить с нами вечно.
Лев Златкин
Стихи разных лет
Жизнь
Год сорок пятый, сорок седьмой...
Осколки войны вернулись домой.
Случай, судьба ли, что там гадать -
Встретились наши отец и мать.
Трудные первые десять лет,
Но появляются дети на свет.
Случай с судьбой продолжают играть -
Пять сыновей родила наша мать!
Время идёт, веселее судьбе.
Есть телевизор в новой избе.
Дети растут, одеты, обуты.
Батя на карте искал институты.
Годы счастливые, восьмидесятые!
Все послужили державе солдатами.
Батя решил судьбе помогать,
Стал по Союзу невест он искать.
Год девяностый нам дал по машканте.
Место судьба сменила на карте…
Море шумит. Идёт новый век.
Жизнь продолжает стремительный бег.
Память
Помните все. Жил с нами Батя.
Год, как уснул он в больничной палате.
Пухом пусть будет земля под камнями!
Память о Бате всегда будет с нами.
Внуки-офицеры
Я знаю, был бы ты рад
Видеть этот военный парад.
Было им трудно, было несладко,
Но есть офицеры с фамилией Златкин!
Разговор во сне
Я тебя слышу. – Здравствуй, Батя!
Мама здорова. Здоровы и братья.
В армии дети. У них всё нормально. -
- Пенсия та же. Что? Коммунальные?
- Нет. Не мешаешь. Почему извини?
-Был рад тебя слышать. Захочешь - звони.
Подарок поэту
Раннее утро, божье творенье.
Свежесть, прохлада. Подарок поэта:
В лёгком тумане - стихотворенье,
Ветер, ласкаясь, принёс от рассвета.
Вместо эпилога
Вот и окончена моя повесть о корнях нашего славного рода. Но это только часть, ведь история продолжается: растут дети, внуки, правнуки. Может быть, один из них возьмет в руки перо, или клавиатуру (ведь все так меняется в этой жизни) и продолжит повесть о семье Златкиных, как ручеек вливающейся в большую еврейскую реку...
Главное, чтобы жива была память, чтобы помнили. Страшно и больно слышать о возрождении фашизма в России и даже в Израиле...
Я обещал тебе, Батя, рассказать обо всем, и сдержал свое слово.
| # Андрей Курбский | ответить |
|
Я с трепетом читал вот это..Костюковичи,Климовичи,Красавичи,Высокое,Милославичи,Мстиславль,Чериков,Хотимск ,всё это знакомые населённые пункты..,Я хорошо знаю историю этих земель теперешней Беларуси(Белоруссии) Меня несколько удивило то,что я нашёл в этой повести:высокую драматургию,увидел то,чего я никогда не встречал в произведениях белорусских писателей:никто из них никогда не мог "поднять" такой груз морали,боли,чести и ещё более тяжёлой темы: абсолютной рафинированной мерзости большей части населения оккупированной части восточной Белоруссии Сейчас же на неё,Беларусь.экстраполировалось состояние цинизма.человеконенавистничества,наверное , ксенофобии ,а скорее всего, нацизма в Путинской нацистской (дремучая теория"Русского Мира")России:это всё выплеснулось в агрессии против Молдовы,Затем Грузии И самая масштабная и грязная агрессия против Украины Нельзя делать вид,что Белоруссия находится в "объятиях" Империи уже давно О находящейся в тисках Кремлёвской пропаганды,Беларуси я говорю неизменно ..Вот только я не могу согласится о каком-то "фашизме" в Израиле ,В Израиле ,демократическом государстве, нет и намёка на фашизм в отличие от России,Но ладно;я как- то передал одному белорусскому писателю некоторые материалы,в которых раскрывалась тема трагедии белорусского еврейства в годы войны,ну... и его мужественного сопротивления совместно с белорусским сопротивлением..Так вот; часть материалов
исторического характера в книге нашли место,что-то "более" серьёзное не нашло отражения в книге(писатель известный) .Ну а повесть имеет узкую направленность,но именно ту,которую просто необходимо было высветлить именно ,как документальный материал. 25/06/2015 16:19:46
|
|
Связь с редакцией:
Мейл: acaneli@mail.ru
Тел: 054-4402571,
972-54-4402571

Литературные события
Литературная мозаика
| Сертифицированные бриллианты |
|---|
| |
Литературная жизнь
Литературные анонсы
Афиша Израиля. Продажа билетов на концерты и спектакли
http://teatron.net/Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие во Втором международном конкурсе малой прозы имени Авраама Файнберга. Подробности на сайте.
Внимание! Прием заявок на Седьмой международный конкурс русской поэзии имени Владимира Добина с 1 февраля по 1 сентября 2012 года.
| Сертифицированные бриллианты |
|---|
| |
Официальный сайт израильского литературного журнала "Русское литературное эхо"
При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.